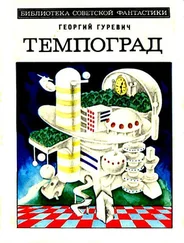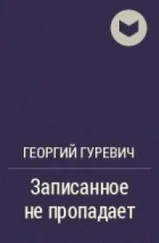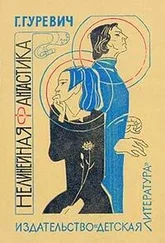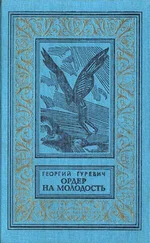Поэт отошел от праздничного стола, сочинил мгновенный экспромт, почеркал, поправил, проверил на слух, выучил наизусть.
Актер повторил роль перед действием, или новую выучил, чтобы заболевшего заменить.
Или сам заболевший ложится в срочную больницу. Там и вылечится и отлежится и сил наберется за сутки.
Впрочем, вы все это знаете. Частенько заглядываете сами в Дом срочности. Даже злоупотребляете, упрекают вас иногда, что не умеете организовать свое естественное время.
Но так было не всегда. Было время, когда люди сами покорялись времени. Время плыло величавой рекой, а люди томились на берегу, ожидая своей очереди, или же, захлебываясь и суетясь, торопились переплыть, пока не унесло невесть куда. Даже поговорка была: «хуже нет — ждать и догонять». Ожидающие, тоскуя и зевая, придумывали способы убивать лишние часы: бессмысленными разговорами, бессмысленной игрой, бесцельными прогулками. А другие, нервничая, метались от одного дела к другому, комкая, бросая на полпути, небрежничая, что-то упуская, суетой изматывая себя больше, чем работой. Казалось бы, так просто; сожми время ждущему, растяни перегруженному. Но даже идея такая в голову не приходила. Людям прошлого тысячелетия все казалось, что законы природы непреодолимы. Умирать обязательно, стареть обязательно, горевать обязательно и обязательно подчиняться времени. Непреодолимо его своевластие. Недаром у античных греков бог времени Кронос был отцом всех богов, и жесточайшим: пожирал своих же отпрысков.
И время пожирало своих детей до той поры, пока…
Этот человек жил в двух эпохах одновременно: мысленно — в третьем тысячелетии, а физически — в начале XX века, в царской России, в уездном городишке на Средней Волге.
Напрягите свое воображение, попытайтесь представить себе жилище того времени, так называемую «избу». За крошечным коридорчиком — «сенями» одна-единственная комната — «горница». Половина ее занята громоздкой выбеленной мелом печью, наверху тряпье и старые шубы — это постель. Вдоль щелястых бревенчатых стен сундуки и широкие скамьи — лавки. На них сидят, на них и спят. В углу несколько икон, перед одной зажженная чашечка с маслом — лампадка. Левее шаткий столик, керосиновая лампа, которая громко называлась «молнией». Полочка для книг на клинышках, вбитых в деревянную стену.
Вот в такой обстановке рождалась темпорология — одно из высших достижений XXI века.
А за подслеповатым окошком простор: величественная река и заливные луга до самого горизонта. Река была оживленно-суетливой во времена Аникеева: масса лодок, лодчонок, парусников, баржи нагружались, баржи разгружались. На берегу громоздились бочки с керосином, связки вонючих кож, пирамиды полосатых арбузов. Грузчики вереницей бежали по сходням, неся мешки на собственном горбу, незанятые дремали тут же на берегу, привязав к босой ноге бирку: «Меньше чем за полтинник не будить». Пьяные дрались у кабака, упившиеся дремали в канаве. Нищие гундосили у церковных ворот. И надо всем этим плавал колокольный звон: басы, густые, как мед, и мелкие колокольцы, словно мухи над медом.
Дремучая жизнь. Дремотное время. И в такой обстановке — думать о том, чтобы пришпорить секунды!
Выдавала Россия такие чудеса. А откуда пришли в науку Ломоносов, Циолковский, Мичурин? Откуда пришли в литературу Горький или Есенин? Иван Аникеев из этого ряда.
Он обожал книги, не любил, а обожал, читал молитвенно и восторженно. Всю жизнь его восхищала и утешала возможность уйти из тусклой жизни в праздничный мир мудрых мыслей. Он так был благодарен авторам, всем авторам до единого, за то, что они, не чинясь, делились с ним — полуграмотным мальчишкой, откровенно беседовали о вещах серьезных и задушевных.
И правда, есть великий демократизм в книгопечатании, в слове, обращенном к каждому, к кому угодно.
Отец Ивана работал на пристани слесарем, на ремонте судов. Некоторый достаток был у него, сына он отдал в школу. К сожалению, как все мастеровые вокруг, старший Аникеев пил, даже запивал, спуская вещи в кабаке, и однажды замерз, не добравшись до дома. Упал в сугроб и заснул навеки.
Четырнадцатилетний мальчишка оказался главой семьи, с кучей братишек и сестренок на руках.
Он работал жестянщиком, работал половым, работал грузчиком на пристани. И все равно учился, мечтал стать ученым, таким ученым, чтобы других детей учить.
Настойчивости хватало у него, характера хватало, хватало трудолюбия и способностей. Времени не хватало.
Читать дальше