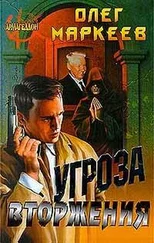Он посмотрел на чашку с остывшим кофе. Темная поверхность оставалась спокойной. Был бы взрыв, по ней сейчас бы гуляли концентрические волны.
«Не здесь», — понял Максимов.
Война началась, как всегда, неожиданно. Где-то далеко, возможно, даже не в этом мире, нарушилось равновесие, и тяжкий гул земли предупредил о начале новой битвы.
В вязкой тишине подвала зашелся тревожной трелью телефонный звонок.
— Слушаю, Максимов. — Он узнал голос деда и облегченно вздохнул, конец ожиданию. — Да, я сейчас подойду.
По пути в кабинет деда он столкнулся с Тарасовой. Но поздороваться не успел. Старший научный сотрудник в обществе двух мужчин партикулярной наружности свернула в отвилок, ведущий в святая святых музея — спецхранилище. Тарасова входила в узкий круг особо доверенных лиц, кому был разрешен вход в подвалы, где хранились трофеи войны и прочие культурные ценности не совсем ясного происхождения. «Пещерой Али-Бабы» прозвали сотрудники спецхран, а Тарасову, пышнотелую блондинку без возраста, соответственно — Али-Бабой. Но за глаза, естественно.
— И сколько вы планируете работать? — раздался голос Тарасовой.
— Сколько сочтем нужным, уважаемая Тамара Васильевна, — с хохотком ответил один из спутников. В голосе отчетливо чувствовалось самомнение человека, допущенного к гостайнам.
Скорее по наитию, чем из привычки совать нос в чужие дела Максимов метнулся в отвилок. Лестница спиралью уходила вниз, в мутном свете лампы на втором пролете он успел разглядеть проплешину на голове и клетчатый пиджак одного из «искусствоведов в штатском». Рука человека задержалась на поручне, и Максимов отчетливо увидел черный ноготь на безымянном пальце. Наверное, прищемил чем-то или ненароком ударил молотком.
«Интересно, что стряслось, если „пиджаки“ экстренно потащили Тарасову в спецхран?»
Ответом стал новый удар подземного грома. Максимов ощутил его всем нутром. Плотный воздух ударил от стен и сдавил грудь.
Дед Максимова, профессор Арсеньев, внешностью и сутью полностью соответствовал своему статусу. Профессор — от латинского «профессоре» («несущий свет»). Святослав Игоревич Арсеньев относился к этой неистребимой и несжигаемой на кострах касте хранителей знаний и проповедников. Как всякий ведун он был порой резок в суждениях и нетерпим к глупцам. Недостатки характера искупались беззаветным служением истине и фантастической работоспособностью. За свой долгий век дед успел сделать и написать столько, что новое поколение студентов, кропая рефераты со ссылками на работы Арсеньева, с чистым сердцем считали его представителем давнего прошлого, славной плеяды, выкошенной голодом и чистками, неким подобием знаменитого профессора Преображенского.
Дед, действительно, напоминал профессора Преображенского из «Собачьего сердца». Окладистая, раздвоенная книзу борода, круглые очки и небрежная аристократичность в одежде. Только Арсеньев не сыпал перлами вроде «не читайте газет перед обедом», а чаще молчал, насупив густые брови, под которыми прятал ясные пронзительные глаза. И в такие моменты становился похож на неистового протопопа, не боящегося ни царского гнева, ни костра.
По сурово поджатым губам деда и полной пепельнице окурков Максимов понял: что-то случилось. Сколько помнил, дед смолил болгарские сигареты, кислые и с неповторимым ароматом. Дом деда, в котором воспитывался с двенадцати лет Максим, после того, как мать и отчим не вернулись из экспедиции, всегда ассоциировался у него с этим душистым запахом.
— Не устал бездельничать? — спросил дед, скользнув взглядом по Максимову.
— Привыкаю потихоньку, — ответил Максим, удобнее располагаясь в кресле.
Арсеньев толкнул к нему по столу листок.
— Полюбопытствуй. Чтобы мозги окончательно не закисли.
Максимов стал рассматривать рисунок. У деда была великолепная память и рука художника. Раз подержав в руках какую-нибудь античную штуковину, он мог в деталях нарисовать ее так, как умели только выпускники Императорской Академии живописи.
— Только не надо смотреть, как баран на новые ворота, — поторопил его дед. Профессор Арсеньев, человек с энциклопедическими знаниями, считал, что не стоит тратить время и вспоминать то, чего не знаешь.
А Максимов не мог оторвать взгляда от рисунка. Графика была мастерской: четыре змеи изгибали тугие чешуйчатые тела, выползая из центра, и завивались в левостороннюю свастику
— Ну, думаю… — Максимов отложил лист и сразу же наткнулся на жесткий взгляд деда.
Читать дальше