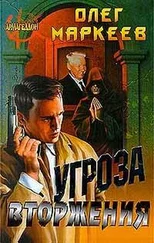— Кстати, эта бляшка называется брактеат. Если не фальшивка, то вещь действительно редкая. — Крыс покрутил в пальцах тускло отсвечивающий кругляшок. — Я такие в музее видел. Вон на обороте какая-то руническая надпись. Впрочем, для серьезной провокации и корону Британии могли сунуть. Для хорошего дела не жалко.
— Я не большой специалист по раритетам, — тонко подколол его Ярослав. Крыс числился советником по культуре. — Пусть Москва проведет экспертизу. От нее и плясать будем.
Крыс погладил пальцем извивающихся змеек на брактеате, со вздохом отложил, одновременно подвинув все трофеи к Ярославу.
— Ладно, неделя у нас есть. Напиши сообщение, и сразу ко мне на визу. Через три часа уходит диппочта в Москву, готовь посылку. Как Центр скажет, так и сделаем. Но мое предварительное мнение — это провокация.
Ярослав отметил, что голос у Крыса какой-то блеклый, никакого энтузиазма, никакого ража от предстоящего дела не слышится.
На секунду ему даже стало жаль Крыса. Жутко, наверное, жить вот таким сереньким.
Стал собирать трофеи и, наклонившись над гладкой столешницей, поймал свое отражение. Снизу на него глянуло волевое породистое лицо мужика, знающего себе цену и любящего риск. Это Ярославу не могло не понравиться.
— Да, кстати, — раздался голос Крыса. — Подойди к Тарханову. У него операция в Баден-Витенбурге. Надо прикрыть. Согласуйте действия, а потом ко мне на инструктаж.
— Хорошо, — кивнул Ярослав, пряча взгляд.
«Ну, гад, тебе не жить», — решил он.
Крыс был по-своему прав, решив убрать его подальше от Леона с Эрикой, пока Центр не скажет свое веское слово. Но ставить в обеспечение чужой операции, как последнего сопляка, его, только что в зубах принесшего политическую бомбу, — такое унижение Ярослав мог простить только самому Глаголеву, которого боялся и уважал.
Следующим утром, когда он проснулся в мотеле на окраине Баден-Витенберга, в Москве вскрыли его посылку.
И бомба взорвалась.
Глава четвертая. Подземный гром
А в Москве кончался август, и с утра зарядил мелкий дождик. Клонилось к закату русское лето, по меткому определению классика — «карикатура южных зим».
Не менее карикатурные реформы, как и полагается на Руси, закончились полным крахом, из стыдливости названным «дефолтом». Теоретики рынка словоблудили с экранов, доказывая очевидный успех преобразований: мол, и у нас теперь как у нормальных стран с развитой экономикой периодически случаются кризисы. Глаза их при этом воровато бегали, как у мелкого фарцовщика на первом допросе. А люди посолиднее клубились в Охотном ряду и на Дмитровке, до хрипоты обсуждая и до онемения локтей пропихивая своего на освободившееся кресло премьера.
Выбор был невелик: газовый магнат с ненормативной лексикой, цековский ветеран с ущемлением поясничного нерва, интриган-железнодорожник, гуманитарий-милиционер и еще пару совсем уж невзрачных личностей. На роль Пиночета не годился никто. А всем накануне голодной зимы почему-то хотелось именно Пиночета. Особенно после мальчика киндер-сюрприза, объявленного главным виновником всех бед.
Банкиры позакрывали обменные пункты и отключили банкоматы. Всем этим гениям спекуляций и архитекторам «пирамид» вдруг резко приспичило выехать за границу, подальше от ошалевших вкладчиков. Газеты и телеканалы кликушествовали на разные голоса, но к бунту все же не призывали. Ограничились резкой критикой и требованием экономических гарантий свободы слова.
А народ… Народ за годы прозападных реформ тоже освоил несколько иностранных слов. Поэтому вместо привычного русскому уху пятизвучья обозвал «слуг народа» и их вороватую челядь импортным словом «пидо…сы» и стал скупать все подряд. Ажиотаж длился три дня, на большее у народа не хватило денег. Кое-как успокоившись и очередной раз стерев плевок с лица, незлобливый русский народ занялся тем, что умеет лучше всех в мире, — выживанием.
Максима Максимова дефолтная свистопляска не затронула, и с самого утра он предавался великорусскому ничегонеделанью. Подперев щеку кулаком, смотрел на капельки дождя на подслеповатом оконце. Больше смотреть было не на что. Окно полуподвальной комнаты выходило во двор музея, и не было никаких шансов увидеть хотя бы пару стройных ног.
«Интересно, а Пушкину снились сны про Африку?» — неожиданно пришло на ум.
Максимов усмехнулся. Голова явно желала думать о чем угодно, только не о работе. В историко-археологической экспедиции, где он числился научным сотрудником без степени, существовали «присутственные дни», в которые приличия требовали показаться пред светлые очи начальства и критические взгляды сослуживцев. Максимов родные стены баловал своим появлением не чаще двух раз в месяц. И то, если не уезжал в командировки по личному указанию профессора Арсеньева. Всем давно было известно, что Максим доводится суровому, как старообрядец, профессору любимым внуком, поэтому смотрели сквозь пальцы на полное отсутствие энтузиазма у Максимова в редкие моменты нахождения на рабочем месте.
Читать дальше