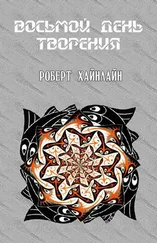Вот это-то и есть самое главное: гроза! Хотя, говоря научным языком, она – побочный эффект обжига, в каком-то смысле не очень существенный.
Поэтому прав тот, кто сказал: не Боги горшки обжигают. То есть прав он в том смысле, что – и не Боги. Люди тоже великолепно делают это дело, на базаре их горшки успешно конкурируют с олимпийской продукцией.
Но у людей получается без грозы.
Если дело изготовления горшков полностью передоверить людям, то не будет гроз.
Поманишь пальцем ребенка: «Иди-ка, мальчик, сюда. Скажи, ты знаешь, что такое гроза?» – «Не», – отвечает мальчик.
Подойдешь к старику: «Папаша, вам приходилось видеть грозу?» – «Не, сынок, – ответил старик. – Дед рассказывал, что вроде когда-то бывали».
Горшков полно, а грозы нет.
А без гроз на Земле, честно говоря, жить было бы тошно.
Значит: спуститься – это раз, тайком – два, желателен безоблачный день – три и четыре – обязательно так, чтоб ночью была гроза.
Ведь смысл этих дурацких горшков в конечном счете в грозе-то и заключен!
Чтоб не было тошно жить на Земле.
Чтоб хоть время от времени из какого-нибудь тупикового переулка в сумеречный час мог донестись пьяный ор:
Брови темные сошлися,
Надвигается гроза!…
202
Верещагин заканчивает рассказ и умолкает, потрясенный собственной речью.
«Это же потрясение основ, – говорит потрясенный директор. – Это же переворот и новая эпоха».
Верещагин кивает.
Вот так они и сидят некоторое время друг против друга и кивают, потрясенные.
«Новая эпоха», – говорит директор.
«Класс «ню», – развивает директорскую мысль Верещагин.
«И как тебя угораздило? – говорит директор. Он восхищен Верещагиным, а у некоторого сорта людей восхищение человеком вызывает желание ласково пожурить его, директор как раз из этого сорта. – Как тебя угораздило! » – говорит он.
Верещагин продолжает кивать. Теперь уже невпопад.
А директору хочется вникнуть в предысторию события.
«Когда-то я считал тебя гением, еще на студенческой скамье, – говорит он, начиная как бы издалека, но, выходит, совсем вплотную к событию. – Потом ты зашился, – директор позволяет себе такое нелитературное слово «зашился». – Ты поблек, и я подумал: очередной неудачник. Знаешь, сколько я их навидался на своем посту, можешь себе представить, сколько их прошло мимо меня и около».
«Тридцать», – кивает Верещагин, но, как выясняется, второпях, в сомнамбулическом своем состоянии завышает число продефилировавших мимо директора неудачников. «По крайней мере, двадцать, – скромно урезает тот верещагинскую астрономическую цифру. – Кончают институт – гении, самородки, а пустишь в дело, выясняется – порода, шваль, ноль. Я и тебя, признаюсь, отнес к их числу».
Оба сидят довольные. Директор – своей откровенностью, Верещагин – идиотской ошибкой директора на свой счет.
«Слишком неудачно ты шел, – оправдывает свое заблуждение директор. – Помню ажиотаж вокруг твоей дипломной. Но потом же пшик был. Был?»
«Пшик, – соглашается Верещагин. – Меня к печам не подпускали».
«И все ж тебя угораздило, – говорит директор. Вдруг».
«И не вдруг, – не соглашается на этот раз Верещагин. – Начало все-таки было в дипломной работе».
«Допускаю, допускаю, – говорит директор. – Но ты вспомни, что говорил о ней Красильников. Красильников ведь бог?»
«Бог, – на этот раз Верещагин соглашается. Бог-отец».
«О твоей дипломной Красильников сказал: ошибка. Я, сказал, не могу найти, где она, но нюхом чую: потрясающей красоты ошибка. Однако, сказал он, за изящество и оригинальную методологию предлагаю рассматривать работу студента как диссертацию… Так он говорил?»
«Так и не так, – полусоглашается Верещагин. Если бы ты знал, как я по нему соскучился».
«Давай ему позвоним», – предлагает директор. «Ага, – в десятый раз соглашается Верещагин. Только ты сначала посмотри на Кристалл, а то…» «Что – а то?» – спрашивает директор. «Может, я все выдумал», – Верещагин вдруг начинает смеяться – заливисто, долго, прямо захлебывается, его корчит в кресле. «Прекрати, – строго говорит директор, свои чудачества. Прекрати!» Но Верещагин все хохочет и хохочет, а потом говорит: «Может, перед тобой сидит сумасшедший, который все выдумал». – «Передо мной сидит гений, – отбривает директор. -Перестань болтать ерунду, для тебя это несолидно».
И он смотрит на Верещагина так, как по его мнению должно смотреть на гения. Но опыта по созерцанию гениев у него нет, он только учится и поэтому быстро устает. Учащиеся устают гораздо быстрее созидающих. Выучить, скажем, математическую теорию или поэму труднее, чем их создать. Потому что созидающим помогает кто-то неведомый, а изучающему приходится рассчитывать на собственные силы. Устав смотреть на Верещагина как на гения, директор говорит: «А как же все-таки с ошибкой? Было? Или Красильников ошибся?»
Читать дальше