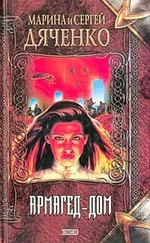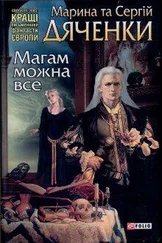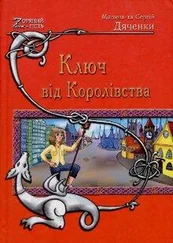Гай оперся локтями о руль:
– Ну, а потом ее изнасиловали в темном углу двое парней с лесопилки. Соседи узнали, ославили шлюхой… Те парни – она даже лиц не запомнила… Они же наемные, сегодня здесь, а завтра след простыл…
Он криво улыбнулся. Те ли, другие – побить его успели; он помнил исступленную жажду крови, когда, ввалившись в деревенский кабачок, сгреб за грудки первого попавшегося верзилу – ведь это он, он! – и приложил мордой об стол, и что было потом, и как он не чувствовал боли, и как кулаки стесались до мяса, а он все выплескивал ненависть и жажду возмездия, пока, наконец, мир не сжался до размеров ладошки и не померк…
– Короче говоря, учитель с дочкой уехали. Потому как… ну, она даже на улицу не могла выйти. Они уехали, адрес… сперва писали, потом… ну, неразбериха была. Потерялись…
Гай потупился. Вздохнул:
– Вот тут-то мать… встретила свою большую любовь. Я, по счастью, уже большой был. Все понятно… я никогда не смел бы… никогда в жизни… ну… осуждать.
Он замолчал. Наваждение закончилось так же внезапно, как и началось – теперь он был пуст. Пустой сосуд, гулкий, спокойный, и даже дно уже успело высохнуть…
А ведь все это не то что для чужих ушей – это для собственных досужих воспоминаний не предназначено!.. Обрывки и отрезки – да, вспомнятся иногда, ничего с этим не поделать, но чтобы так последовательно, будто на бумаге, не то исповедь, не то мемуары, вот черт…
Он сжал зубы, удерживая раздражение:
– Да уж. Развлек я вас, да?.. А вот все это враки, на самом-то деле я побочный сын герцога, подброшенный в пеленках с гербом… к стенам монастыря. А ведь в пеленки с гербом – в них тоже писают и это… какают, короче. И герб от этого… страдает. И мой августейший отец…
Он осекся. Собеседник молчал; Гай посидел, опершись локтями о руль, потом сказал совершенно спокойно:
– Мой августейший отец лекцию читал в университете. В прошлом году. «Пути спасенья». Вот я его и увидел… Хорошо, что я запомнил, как его зовут. Даже, дурак, подойти хотел… Потом, слава Богу, вразумился и раздумал. И даже не напился по этому поводу… принципиально.
Он хохотнул. Когда человек смеется – он не выглядит жалким; во всяком случае, если он смеется хорошо, натурально, искренне. А вот искренности-то Гаю и не хватило, смех застрял у него в горле, потому что он – вспомнил.
Именно в тот день – когда он «принципиально не напился» – Гаю приснился впервые этот знаменательный сон.
Ему снилось место, где он никогда не бывал – не то город, не то поселок с уродливо узкими и кривыми улочками, а над ними серым брюхом нависали слепые, без окон, дома. Небо над городом было неестественно желтым; под этим желтым небом его, Гая, волокла безлицая толпа, волокла с низким утробным воем, и он знал, куда его тащат, но не мог вырваться из цепких многопалых рук, но страшнее всего было не это. Страшнее были моменты, когда в толпе он начинал различать лица; выкрикивала проклятия мать, грозил тяжелой палкой учитель Ким, скалились школьные приятели, мелькало перекошенное ненавистью лицо старой Тины – и Ольга, Ольга, Ольга… Гай пытался поймать ее взгляд, но слезы мешали ему видеть, он только пытался не свалиться толпе под ноги.
А толпа волокла его, выносила на площадь, посреди которой торчал каменный палец; Гай чувствовал, как впиваются в тело железные веревки, не мог пошевелиться, привязанный к столбу, его заваливали вязанками хвороста выше глаз, и он просыпался с криком, от которого соседи по комнате вскакивали с постелей…
Сон повторялся. Приходил то чаще, то реже, обрастал новыми подробностями, уходил и забывался, возвращался снова вопреки надежде, и не помогали ни травы, ни заговоры, ни отчаянные усилия воли…
Пальцы его на руле свело судорогой.
– Вспомнил? – негромко спросил его спутник.
Гай мельком взглянул на него – и отвернулся.
Что «вспомнил»? Что за интерес в чужих потаенных воспоминаниях?
– А вот про это, пожалуй, не спрашивайте, – проронил он, глядя на собственные ладони, белые и непривычно мозолистые. – А вот об этом я, пожалуй, и не скажу…
– Да и не надо, – неожиданно легко согласился его спутник. – А погодка-то портится… Поедем?
Гай посмотрел на часы, вздрогнул:
– Ох ты елки-палки…
И завел мотор.
Налетел ветер, рыжая пыль взвилась столбом; Крысолов убрал локоть из окна и поднял стекло. Солнце пропало; Гай сидел за рулем, желая слиться с машиной, стать машиной, ничего не знать и не помнить, кроме биения мотора, запаха бензина, мелких камушков, щекочущих шины, и крупных, остающихся между колесами, и выбоин, от которых вздрагивает кузов…
Читать дальше