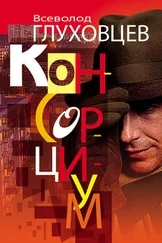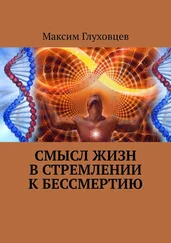Геннадий Александрович помолчал немного, вздохнул. Провёл ладонью по голове, ото лба к затылку. Волосы у него были серые, реденькие.
— Так было, — сказал он спокойно. — Я в этом убеждён. Так было, покуда государства были достаточно слабыми образованиями и не могли контролировать своих подданных, их мозги… Но затем государственная власть усилилась. Не армией, не полицией и даже не деньгами. Нет. Печатный станок! Вот главное орудие государственной власти. Я имею в виду не тот станок, что печатает деньги, а тот, что газеты. Наверное, приходилось слышать: пресса — четвёртая власть?.. Приходилось. Так это лукавство, скажу я вам. Ложная скромность. Не четвёртая, а первая, первая власть — пресса… в широком, конечно, смысле — все средства массовой информации.
Островцов встал. Голос его был твёрд и властен, как у судьи, выносящего вердикт.
— Поэтому. Я утверждаю следующее: власть государства или стоящих за его ширмой кланов зиждется на прямо государственных или формально независимых от государства средствах массовой информации. Пресса, радио, телевидение… последнее разумеется, главным образом, как максимально эффективное средство… Немножко так каламбурно получается, но… н-ну, пусть. Одним словом, грубо говоря, государство, современное, сильное государство — это как бы в одном лице и телерадиокомитет и контора по ремонту телевизоров, которая следит, чтоб все приёмники, то есть все мозги работали только в одном режиме, режиме того, что мы с вами условно обозначили «первой программой». Ну, а для чего это нужно, полагаю, ясно. Приёмником, настроенным на один диапазон, манипулировать проще, он четко воспринимает и выполняет команды, отдаваемые теми, кто этот диапазон контролирует, то есть государством. Вот это и есть власть, психотропная власть государства, самая сильная и надёжная изо всех властей.
Геннадий Александрович устало замолчал, глотнул, поморщился, помассировал рукою горло.
— Пересохло во рту, — виновато объяснил он. — Схожу попью, я на секунду…
Он ушёл в кухню, и там зашумела вода.
Недоумение скользнуло по лицу Артура. Теперь Геннадий Александрович был абсолютно нормальным человеком, и даже движения и походка у него стали другие: не дёрганый пунктир неудачливого гения, а обычная ровная линия идущего домой с работы мелкого служащего. «Чудеса», — подумал Артур, но более подумать не успел ничего, так как вернулся просвеживший горло Геннадий Александрович — и с ходу продолжил речь, едва возникнув в дверном проёме кухни.
— Теперь вы понимаете, почему такие колоссальные усилия затрачиваются на работу средств массовой информации: система телетрансляции, спутники, типографии… сколько энергии, какие затраты!.. Но всё оправдывается, ибо человеческий материал, выдерживаемый в границах одного канала — это, в основном, послушный, управляемый материал, приносящий колоссальную прибыль. Поэтому другие каналы тщательно глушатся лавинами информации, которая процентов на восемьдесят бессмысленна для получателя. Приглядитесь, например, какая чушь по телевидению… Но с точки зрения хозяина конторы эта бессмысленная информация исключительно ценна: этот шум загружает мозги пустой работой, которая мешает им, мозгам, улавливать иные диапазоны… Но мозг всё-таки улавливает слабые, забитые шумом сигналы других диапазонов, практически любой мозг, любой человек… но кто-то посильнее, и тогда такой человек называется больным, шизофреником, предаётся остракизму, что отпугивает других от проявления интереса к этим сигналам… между прочим, ничего особенного в умении ловить их нет, никакой особой заслуги… и те реальности ничуть не лучше нашей, напротив, хуже, я уж говорил… но это, впрочем, несущественно. Дело в другом. Я не против принципа власти. Я против того, что в системе власти нет места мне. Никто ведь не возражает против того, что существуют деньги, но те, у кого их нет, активно возражают против того, что у них их нет, а у кого-то их много.
Островцов кратко неприятно рассмеялся. Он подошёл к столу и, не вынимая левой руки из кармана брюк, правой ловко, с быстротой факира подхватил реторту — и прищурив один глаз, другим жестко глянул, как в прицел, сквозь жидкость, отпустил пальцы, на лету поймав сосуд за горлышко.
— Да, — заключил он, небрежно поставив реторту на место. — Я возражаю. В старину в польском сейме каждый шляхтич имел право вето. «Не позвалям!» — так говорил он, и закон отвергался. По-нашему, значит: не позволяю.
Читать дальше