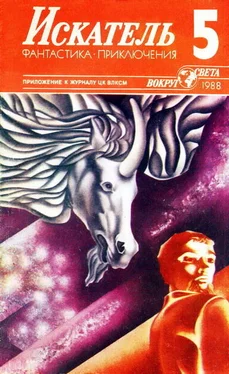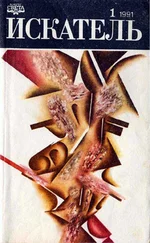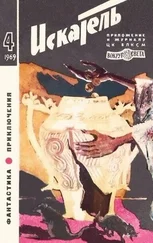— Какой Стаська? — не понял сразу Мороз.
— Ну, Эрнст, сын учителя того, что у немцев служит. А Стаськой это его так кличут.
— А–а… Пусть подождёт, я сейчас…
Приближаясь к устроившимся у входа в его землянку Эрнсту я Зосе, Мороз ещё издали — только увидев, как напрягся и сжался в комок мальчишка — понял, что вслед за событиями у реки стряслась, очевидно, новая беда. Зося держала руку подростка в своей, что–то горячо говорила. Мальчик молчал, низко наклонив голову.
— Вот всё спрашиваю его, спрашиваю, — с обидой сказала Зося, — а он ни слова. Хочу помочь, а он…
Эрнст поднял на комиссара глаза. Они были печальны.
— Спасибо, Зося, мы тут разберёмся. Пойдём, Эрнст, в землянку…
Когда сели за стол, Мороз спросил мальчика:
— Пить хочешь?
— Нет, Зося напоила.
Мороз нарочито небрежно, даже укоряюще сказал:
— Что ж ты, брат, нарушаешь порядок? Я тебя в ночь жду, а ты вот он — тут как тут. Иль случилось что? Рассказывай.
— Лютовать немцы начали, — выдохнул мальчик, теребя в руках шапку. — После побега. Ну как пленные бежали. Убили там офицера и двух солдат ихних. Они и начали.
— Так…
— В полдень согнали народ на площадь, а там виселица… Скамейку внизу поставили… Народ молчит, а бабы всё крестятся, крестятся… Потом наших привели. Троих. Без шапок, руки за спиной связаны… Одного я не знаю, какой–то хромой, Иваном его бабы называли… Других знаю. Сапожник старый Платон Орешко, маленький такой, сутулый, и бывший учитель ботаники из второй школы Игнатий Купревич, постарше Орешко будет, длинный, седой–седой, с бородкой, его ещё Дон Кихотом звали.
Эрнст глотнул воздуха.
— Тут офицер вперёд вышел. Встал напротив виселицы… Сегодня, говорит, был убит очень кароший немецкий офицер и два зольдатен фюрера. Мы тоже будем убивать три мужчины. Нельзя, говорит, убивать зольдатен фюрера, будем сильно наказать…
Наших повели к виселице, тут бабы в крик, а немцы строчить стали поверх голов. Скамейку кто–то выбил, я отвернулся… А бабы голосят и крестятся. А те трое уже висят…
Антон поднялся, подошёл к мальчишке, обнял его, прижал к себе. Худенькие плечи подростка дрожали.
— Гады, гады! — выкрикнул он. — Гады!…
— Ни в чём не повинных людей, — выговорил Мороз. — Стариков… Хромой Иван… Сапожник Орешко… Ботаник… Он ещё выставку бабочек делал в клубе в тридцать девятом, помнишь? Больше ста бабочек, самых разных. В коробочках красивых, на бархате… Игнатий Петрович, с бородкой. Тихий, улыбчивый. Точно — Дон Кихотом его звали.
— Гады…
«Боже, — подумал Антон. — И мой отец мог быть там. Безоружных уничтожают. Стариков и увечных — как же так?»
Он прошёлся по землянке, стараясь успокоиться. Потом спросил:
— А что отец?
— Он велел идти. Явился домой днём, часа в три, хотя обычно, знаете, чуть не за полночь приходит. Сказал, что вчера поздно вечером — уже после того, как мне сообщил о пленных, — во время допросов сумел передать записку одному нашему, пожилому с забинтованной головой. Может, засёк кто, сказал отец, сердце неспокойно. В записке той он написал, что партизаны все знают, и указал направление, куда бежать, чтобы попасть к вам. Вот они и рыли подкоп. Только к рассвету управились. И рванули.
— Понятно, — сказал Мороз. — Понятно, брат.
До Антона яснее дошёл смысл происшедшего, и он со стыдом и горечью осознал, что не смог предвидеть такого поворота событий, считая, видно, что пленные будут сидеть и дожидаться освобождения, а немцы дадут возможность провести разведку и лишь затем тщательно продуманное нападение. Что бы сказал обо всём этом Лучинец? Уж он–то ни при каких обстоятельствах не наделал бы подобных глупостей. Но разве не его советом — беречь людей — руководствовался Антон, когда посылал на задание Орешко и Ходкевича?
Видно, никакие, даже самые умные советы нельзя принимать слепо. Нельзя цепляться за них без умения правильно оценить реальные обстоятельства и реальных людей. Надо больше надеяться на себя и прислушиваться к себе… Как же быть теперь?
— Вот что, Эрнст, — сказал комиссар, — думаю, тебе надо остаться в отряде. Располагайся–ка у меня. А там видно будет.
Мальчишка поднял на Антона печальные глаза, сказал с беспокойством, но решительно:
— Как? А отец? А мама? Я пойду!
— Не торопись, не торопись. Сейчас тебе появляться там — только гусей дразнить. Скажи лучше, нельзя ли в случае чего объяснить твою отлучку тем, что ты пошёл к родичам в соседнюю вёску? Есть родичи? Вот и отлично… Давай, располагайся. А я пройдусь. Скоро буду. Согласен? Ну чего ты так на меня смотришь? В дом твой мы человека пошлём. Понял?
Читать дальше