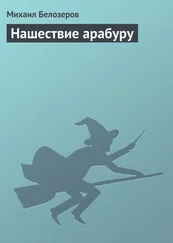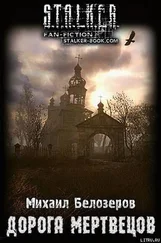Михаил Белозеров
Десятая планета
"Орбита десятой планеты наклонена к плоскости Солнечной системы под углом 45 градусов и с поверхности Земли не наблюдается… "
(из "Штурманской лоции'.)
Он падал на эту страшную планету давно и безнадежно. Вот уже неделю она все ближе подставляла ему свои бока за единственным иллюминатором — фиолетовая в дымке облаков, подернутая по горизонту розоватой вуалью. На двухсотом витков он приготовился. Влез в скафандр и занял место на катапульте. Еще через час перешел на автономное дыхание, потому что за иллюминатором стали прочерчиваться огненные сполохи и обшивка кабины задымилась. Потом сработала автоматика, и он очнулся висящим на стропах под огромным парашютом.
Проснулся словно от толчка с тяжелым, скулящим сердцем. Открыл глаза, и за стеклом шлема ему почудились качающиеся колосья степных трав и цветущий склон холма, перешагивающий долину. Дул теплый ветер, и зелень казалась блестящей и яркой.
В следующее мгновение он понял, что все это обман. Сознание стерегло его так же верно, как и явь обостренного отчаяния.
У него появилось ощущение, что он видел прекрасный сон. Он и в самом деле видел прекрасный сон, будто сидит в поле среди трав и стоит приподняться, как он обнаружит широкий луг с морем цветов, ленту реки, за ней — желтую дорогу через мост, а за мостом все тот же луг, но уже поддернутый полуденным земным маревом, а еще дальше синь неба и белые-белые облака, словно с картин Сезанна.
Он перевернулся на спину и с трудом сел. Тело не слушалось. К тому же у него снова начался отчаянный зуд под толстой шкурой скафандра и он, скосившись на ступни сколько позволял шлем, принялся раздирать перчаткой ноги.
Поверхность скафандра на коленях потерлась и из серебристой стала серой. К тому же в дырку на плече просачивался сернистый газ, и порой у него кружилась голова. Теперь ему приходилось немного приподнимать плечо, чтобы закрыть им дыру, а ночью спать только на правом боку.
У самых ног из-под песка торчали выросшие за ночь стержни кристаллов, чем-то похожие на хрупкие омертвевшие кораллы, а дальше простилалась бесконечная равнина, освещенная белесым утренним светом. Она убегала почти идеально ровная к далеким холмам, таким же безжизненно-отрешенным, как и те, среди которых он находился. К полудню горизонт подернется рыжим, а из песка кверху с протяжным "Фу-ф-ф…" потянутся клубящиеся струйки дыма, и ничего не станет видно в трех шагах.
Он снял бластер — красивую игрушку весом в два кило, и с досады рассадил куст кристалла. Раздался хлопок, как если бы над ухом щелкнули зонтом, и куст испарился, а на его месте осталось рыжеватое пятно вывернутого безжизненного песка. Потом к полудню оно высохнет, побелеет, покроется пылью и свежим налетом соли, от блеска которой так нестерпимо болят глаза. Иногда ему казалось, что теперь весь мир состоит из этого нестерпимого-мертвенного блеска. Впрочем, дальше к горизонту, цвет менялся на рыжеватый, как и воздух, и небо на этой планете.
Он в два приема поднялся: вначале перекатился на живот, потом, сгребая смесь песка и соли, подтянул колени, сел, удерживая равновесие, оперся на руки, и с трудом выпрямился.
Сегодня искусственный горб за спиной, очищающий воздух, показался ему особенно тяжелым. У него еще осталось немного еды, и он позавтракал стоя, равнодушно оглядывая пространство перед ним. Автоматически потянулся за куревом в несуществующий карман, вспомнил, что он в скафандре, и пошел. Бластер он забыл на песке.
Цели у него не было. Просто двигался от одного намеченного ориентира к другому, порой посматривая в зеркало кругового обзора и стараясь идти так, чтобы цепочка следов за ним была как можно прямее. Курсомер у него не работал уже несколько дней.
К полудню он сбился. Однажды после целого дня бесконечных усилий с удивлением увидел перед собой человеческие следы и даже пошел по ним, пока не набрел на разворошенную поляну и не понял, что это его последнее место ночевки; и теперь через каждый час, когда на экране шлема высвечивалось зеленоватая точка и раздавался мелодичный щелчок, он отступал пару шагов вправо и шел дальше.
Часть автоматики была еще в норме, и шипение клапана, через который стравливалось избыточное давление, давно стало привычным и, пожалуй, было единственным звуком на этой безмолвной планете.
Теперь он с большим трудом вспоминал, как его зовут, и знал, что старость ему не грозит.
Читать дальше