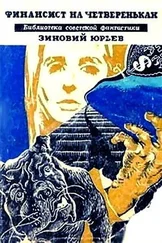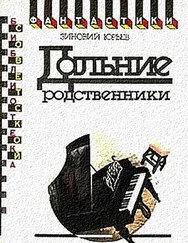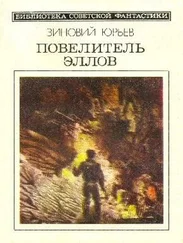"Спасибо, друг Владимир", - пробормотал он.
"За что?"
"За решение".
"Ты не хотел, чтобы я остался у вас?"
"Что ты, друг Владимир, как ты мог подумать такое!"
"Так за что же?"
"За выбор. Это очень мужественный и глупый выбор. И я преклоняюсь перед ним. Весь мир узнает о нем, и весь наш мир преклонится в изумленном восхищении. Потому что нам всем начинает не хватать глупости. А человек слишком много миллионов лет делал глупости, чтобы легко и безболезненно сразу расстаться с ними. Ты преподал нам урок, и теперь мне начинает казаться, что бедной Соней двигала не только жалость к далекому предку, а некое высшее провидение... Мы преклоняемся перед тобой. Весь наш мир пошлет тебе прощальный привет в момент пробоя, и мне хочется, всем нам хочется, чтобы ты унес этот привет с собой, в свой век, своим друзьям, потому что в тебе мы воздаем должное всем нашим предкам, на чьих плечах мы тянемся к небу".
Внезапно я почувствовал, как меня ожгла простенькая и пугающая мысль. Я вспомнил генеалогическое древо и пробел вместо даты моей смерти. Ладно, мне компьютер правды не сообщил, но Прокоп-то знал. Я посмотрел на него.
"Прокоп, скажи мне, ты ведь знал?"
"Что?"
"Знал, что я решу вернуться?"
"Нет".
"Но ведь все это в компьютерной памяти. Ты мог нажать кнопку и узнать, что Харин Владимир Григорьевич умер тогда-то и там-то, в тысяча девятьсот восемьдесят или девяносто таком-то году, и, стало быть, он вернулся".
"Мог".
"И не нажал кнопку?"
"Нет, друг Владимир, не нажал".
"Но почему?"
"Я не хотел знать. Я уже говорил тебе, что свобода выбора для нас священна, и я боялся, что знай я заранее твое решение, что-то в моих словах, жестах, выражении лица могло повлиять на тебя, подтолкнуть к тому, что должно было родиться пусть в муках, но само, только само".
"Прости, друг Прокоп. Древняя привычка думать о людях хуже, чем они есть, инстинкт самосохранения и самовозвеличения. Прости".
"Я понимаю, я все понимаю", - грустно сказал Прокоп.
"И еще... - теперь, когда я знал, что расстаюсь с этим миром, мне страстно захотелось понять его, - может, это глупый вопрос... вы счастливы?"
Прокоп склонил голову набок совсем по-птичьи, вздохнул, подумал и сказал:
"Мне иногда кажется, что мы не стали счастливее вас..."
"Но..."
"Я знаю, что ты хочешь сказать, друг Владимир. Да, мы неизмеримо свободнее, у нас меньше примитивных забот и несчастий. Но, наверное, для гармонии нужны и заботы и несчастья. Да, несчастий и забот стало меньше, но реагируем мы на них, похоже, острей. Сократилось количество страданий людей, но уменьшилась и защита от них - эгоизм".
"Я вижу..." - пробормотал я.
"Вот и сейчас, - вздохнул Прокоп, и глаза его увлажнились, - мне больно... Ты уходишь..."
Сердце мое сжалось. Печаль была одновременно тяжела и светла.
"Что делать", - вздохнул я.
"Я... - Прокоп вдруг улыбнулся, - я... завидую тебе".
Владимир Григорьевич помолчал, подумал и сказал:
- Вы знаете, друзья, до сих пор я думаю, что он хотел этим сказать... Но вернемся в двадцать второй век. Я стоял перед Прокопом, улыбавшимся сквозь слезы. И именно в этот момент я почему-то подумал о Дэниэле Данглэсе Хьюме. Потом уже я понял, почему именно о нем и именно в эту минуту.
Забегая вперед: как только произнес я такое простенькое и такое трудное словцо "вернуться", воображение мое тут же рванулось домой, в наш Дом, к вам, милые мои друзья, к вам, Анечка.
- Спасибо, - улыбнулась Анна Серафимовна.
- Возвращение подсознательно, наверное, ассоциировалось у меня с сувениром, с гостинцем, а вы, Анечка, с вашим Хьюмом.
Объединившись, вы, Анечка, и Хыюм знали, что делать, тут уж у меня выбора не оставалось.
"Прокоп, - сказал я, - дорогой друг, у меня к тебе просьба".
"Это прекрасно", - просиял Прокоп.
"Почему?"
"Как почему? Разве ты не знаешь, какое это редкое наслаждение - оказать кому-нибудь услугу?"
"Гм... Вот теперь я чувствую, что я в другом веке. Мы, признаться, относились к просьбам друзей без вашего восторга".
"Да, да, конечно, друг Владимир, наверное, наш мир куда более упорядочен, и куда больше услуг нам оказывают наши машины. Но не будем отвлекаться, я слушаю тебя".
Никогда не был я особенно деликатным и стеснительным, сказал Владимир Григорьевич. Настырным хамом тоже, кажется, не был, но своего привык добиваться. А здесь вдруг замялся. Чувствую, язык не поворачивается. Наверное, и не повернулся бы, но помогло, надо думать, все-таки ощущение камикадзе, что ли... Выбрал ведь я возвращение, отказался в странном своем безумии, в торжествующей глупости, в гордыне, наконец, нелепой, от жизни, от бессмертия, от молодости, предпочтя скорый конец в Доме престарелых ветеранов. И в качестве компенсации за добровольный отказ от прописки в раю чувствовал я себя вправе просить то, что собирался попросить.
Читать дальше