— Ну, разве они не прелесть? — говорит мама. — Крошки слишком устали, чтобы добраться до постельки.
Круглый стол. Престарелые дамы и рыцари собрались вокруг него, чтобы подвергнуть последнему дознанию туза, короля, даму и шута. Их единственная броня — жир, слой на слое. Щеки матери свисают, словно знамена в безветренную погоду. Ее морщинистые груди, вывалившись из выреза платья, подрагивая, растеклись по столу.
— Жующие коровы! — говорит он громко, глядя на их жирные лица, приподнятые зады, азартные шлепки по столу. Они удивленно, словно проснувшись, поднимают брови. О чем это, черт возьми, говорит сей сумасшедший гений?
— Твой мальчик и в самом деле медлительный? — спрашивает один из маминых друзей, и они смеются, прихлебывая пиво. Анжела Нинон, боясь пропустить свой черед и чувствуя, что мама вот-вот переключится на распылители, мочится ей на ногу. Они смеются над этим, и Вильгельм-Завоеватель говорит:
— Я сдаюсь.
— А я отдаюсь, — говорит мать, и все визгливо смеются.
Чибу же впору заплакать. Но он не плачет, хотя с самого детства его приучали плакать, когда ему плохо.
— Тебе сразу поможет, — говорили ему. — Погляди-ка на Викингов, что это были за мужчины! Но они плакали, словно дети, всегда, когда им было плохо.
Он не плачет, потому что чувствует себя, словно человек, думающий о любимой матери так, будто она умерла очень давно.
Его мама давно уже погребена под глубоким слоем плоти. Когда ему было шестнадцать, у него была любящая мать.
Потом она отказалась от него.
Канал 202, популярная программа: “Что делать матери?”
В семье, где все поют,
дела на лад идут 2 2 Из стихотворения Эдгара А.Гриста, канал 88.
— Сынок, не ругай меня за это. Я делаю так, потому что люблю тебя.
Жирная, жирная, жирная! Когда она только уйдет?! Вниз, в бездну этого жира! Исчезая по мере того, как становится толще!
— Сынок, ты можешь спорить со мной обо всем и сейчас, и позже.
— Ты отдалила меня от себя, мама. И это было правильно. Я теперь уже большой. Но у тебя нет никакого права требовать, чтобы я захотел вернуть прошлое.
— Ты меня больше не любишь!
— Что на завтрак, мама?
— На этот раз готовь завтрак сам!
— Зачем же ты меня звала?
— Я забыла, когда открывается твоя выставка. Я хотела соснуть немножко перед тем, как идти туда.
— Четырнадцатого, мама. Но тебе не надо туда ходить Зеленые накрашенные губы расходятся, словно гангренозная рана.
Она чешет свой напомаженный сосок.
— Ох, мне так хотелось там побывать. Я не хотела бы пропустить триумф собственного сына. Как ты думаешь, тебе дадут дотации?
— Если нет — нас ждет Египет, — говорит он.
— Ах, эти вонючие арабы! — восклицает Вильгельм-Завоеватель.
— Это дело рук Бюро, а не арабов, — говорит Чиб. — Арабы кочевали по причинам, по которым мы бы тоже стали кочевать.
Из неопубликованных рукописей дедушки:
“Кто бы мог подумать, что на Беверли-Хиллз засядут антисемиты?”
— Я не хочу в Египет! — причитает мама. — Ты должен получить дотацию, Чибби! Я не хочу покидать наш тесный круг. Я родилась и выросла здесь, на десятом уровне, и когда я уеду, все мои друзья останутся совсем одни. Я не поеду!
— Не плачь, мама, — говорит Чиб, чувствуя жалость к себе. — Не плачь. Правительство не может силой заставить тебя ехать. У тебя есть права.
— Если ты думаешь остановиться на достигнутом, то, конечно, тебе придется ехать, — говорит Завоеватель. — И я не стал бы винить Чиба, если бы он даже пальцем не пошевелил, чтобы получить эту дотацию. Не его вина, что не можешь сказать “нет” дядюшке Сэму. Ты получила свои пурпурные, а теперь требуешь от Чиба то, что он получает от продажи своих картин. Тебе и этого мало. Ты транжиришь их быстрее, чем получаешь.
Мать со злостью кричит на Вильгельма, и они пропадают. Чиб выключает экран. Черт с ним, завтраком, он поест позднее. Его последняя картина должна быть закончена для фестиваля к полудню. Он давит на клавишу, и пустая яйцеобразная комната преображается. Из стен появляются рисовальные принадлежности, словно дары электронных богов. Ван Гог был бы потрясен, а Дали просто хлопнулся бы в обморок, доведись им увидеть холст, палитру и кисть, которыми пользуется Чиб.
Процесс создания картины включал в себя сплетение тысяч проволочек в разнообразные формы на различной глубине. Проволочки были так тонки, что каждую в отдельности можно увидеть только через увеличительное стекло. Гнуть их можно только специальными маленькими щипчиками. Отсюда и очки на носу, и длинные паутинки в руках на первой стадии работы. После сотен часов медленного и кропотливого труда проволочки занимают предназначенное им место.
Читать дальше
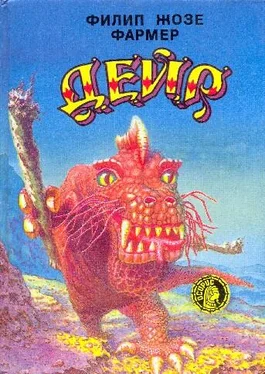


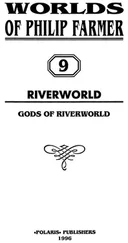


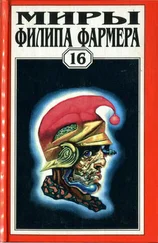
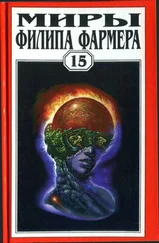




![Филип Фармер - Дейр [сборник]](/books/393559/filip-farmer-dejr-sbornik-thumb.webp)