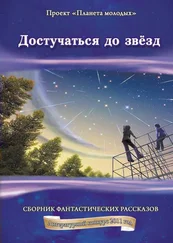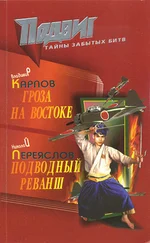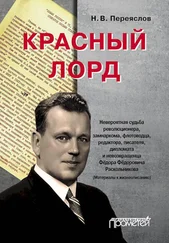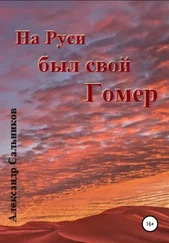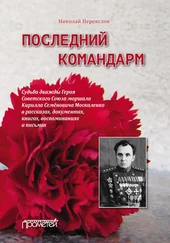Абсолютно противоположная картина открывается нам в "Одиссее". В отличие от "Илиады", наполненной в основном лишь фоновым ревом нескончаемого побоища, в котором раздаются неотличимые в своей громогласности одна от другой речи героев да грохоты каких-то чуть ли не бутафорских, помузейному пустотелых, падающих доспехов, "Одиссея" от начала и до конца насыщена тончайшими звуковыми оттенками самого широкого диапазона - здесь и "осторожно сказал", и "с гневом отвечала", и "кротко отвечал", и "негодуя, воскликнул", и "отвечал насмешливо", и "дружелюбно сказал", и "прошептал", и "дико завыл", и "слыша тяжкие вздохи", и "охая, с кряхтеньем", и множество самых разнообразнейших проявлений человеческого голоса. Как "Илиада" тонула в зримо-цветовом изображении деталей визуального характера, "Одиссея" тонет в звуках: здесь раздаются песни аэдов, щелканье, свисты; здесь поют волны под килем, скрипит натягиваемый лук, звенит тетива, жужжит летящий камень, визжит бурав, играет музыка... Звук вообще является основополагающим "строительным материалом" этой поэмы. Если, например, в "Илиаде" расстояние определялось, исходя из понятия глазомера, то есть "не дальше, как падает брошенный камень", то в "Одиссее" фигурирует уже тот критерий расстояния, "в каком человеческий внятен нам голос" (Песнь V, ст. 400, и Песнь IX, ст. 474). Не менее красноречивым оказывается и сопоставление построения образов, относящихся к описаниям всевозможной утвари, помещений, а также людей и коней. Так, например, если в "Илиаде" здания и строения имеют обычно характеристику чисто зрительного порядка - "пышный дом", "высокие палаты", "прекрасный дом", "высокий терем",- то в "Одиссее", как правило, восприятие окружающих апартаментов и строений идет уже акустическим путем, через эхо шагов, голосов, проезжающей через ворота колесницы и прочего, в результате чего появляются характеристики, говорящие о том, что автор окружающее пространство не видит, а слышит: "в звонко-просторном покое", "через портик промчался звонкий", "звонко-просторные сени", "в звонких покоях" и так далее. Точно такая же разница наблюдается и в описании мебели: если в "Илиаде", допустим, говорится о столе, что он "прекрасный, ярко блестящий, с подножием черным" (Песнь XI, ст. 629), то в "Одиссее" сообщается уже только то, что стол "гладкий" (Песнь IV, ст. 54),- то есть он воспринят здесь уже явно не зрительно, а осязательно, на ощупь, из-за чего и исчезли, из описания такие показатели, как цвет и блеск. И данное свойство предметов упомянуто автором "Одиссеи" отнюдь не случайно, оно имеет для него приоритетное значение перед всеми прочими характеристиками: "гладкость", например, характеризует у него камни, стены, порог, полку... Создается впечатление, что если автор "Илиады" ощупывал мир вокруг себя взглядом, то автор "Одиссеи" прикасается ко всему только рукой. Если, скажем, о коврах в "Илиаде" говорится, что они "пурпуровые" или "светлые", то есть указывается их цветовой, зрительный признак, то в "Одиссее" они "мягкие", воспринятые уже только путем осязания. Если, к примеру, кони в "Илиаде" и "долгогривые", и "быстрые", и "пламенные", и "бурные", и "дымящиеся от бега", и прочие, то в "Одиссее" они единственно что "густогривые" и только. Вообще в "Одиссее" постоянно поют, говорят, играют на музыкальных инструментах - проявляют себя, так сказать, не визуально, а акустически. Случайно ли это? Случайно ли С. Маркиш писал об отсутствии зрительных портретов в "Одиссее", а Т. Тройский - об отсутствии образов певцов-аэдов в "Илиаде"? Думается, что нет. Эти поэмы имеют принципиальнейшее различие в самом восприятии мира их авторами: "Илиада" передана главным образом через образы зрительные, а "Одиссея" - через слуховые и осязательные. Объяснить такую метаморфозу тем, что "Одиссея", дескать, является более поздним по отношению к "Илиаде" произведением и Гомер к этому времени успел так серьезно изменить свой художественный способ видения мира, думаю, невозможно. Даже если бы он ослеп после написания своей первой поэмы, то память о зрительно воспринятом мире уже не дала бы ему переключиться на восприятие этого мира только через звук и осязание! Логичнее все-таки предположить ту версию, что эти поэмы написаны совершенно разными авторами, причем если вспомнить, что предание упорно называет Гомера слепцом, то авторство этого поэта может быть распространено только на "Одиссею". Именно она оказывается написанной с преобладанием слуховых и осязательных образов над зрительными, что недвусмысленно говорит о слепоте сотворившего ее Гомера. Гомера, уточним мы теперь, никогда не писавшего произведения под названием "Илиада", но написавшего поэму "Одиссея", что, конечно же, ни в какой мере не умаляет его значения в истории всемирной литературы.