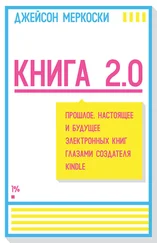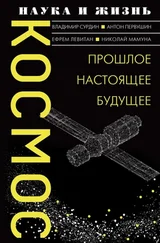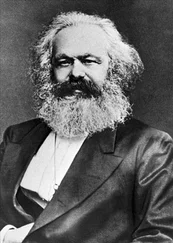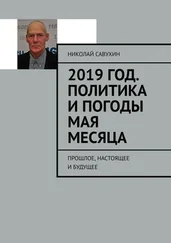До тех пор, пока допустимо рассматривать относительно стабильные внешние условия, в которых развивалось человеческое общество, как нечто от него независящее, положение историка довольно понятно. Он должен хорошо разобраться в природных условиях различных регионов планеты, и баланс экологических факторов даст ему вполне приемлемое объяснение основных этапов в развитии примитивных сообществ. Это я назвал бы линейной историей, когда взаимодействием сообществ и их самодействием можно в какой-то степени пренебречь, точнее, эффективно учесть их в форме определенного небольшого набора экологических факторов. Главное, на что приходится жаловаться нехватка данных, слишком многие следы линейного, самого длительного периода человеческой истории безжалостно уничтожены или сильно стерты.
Этот период очень важен и интересен, но все-таки самое интересное возникает потом, когда историк сталкивается с функционированием сложных социальных систем - цивилизаций. Теперь уже факторы собственной технологической деятельности этих систем нельзя игнорировать, и они вступают в сильное взаимодействие с чисто экологическими факторами. Создается резко нелинейная ситуация. В период научно-технической революции действие на окружающую среду достигает таких масштабов, что историк поневоле вынужден привлекать множество естественнонаучных и технических данных.
Доминирующий фактор нашего времени - сложная социальная структура, включающая мощную техносферу, приводит к особой исторической ситуации, когда преобразования глобальных масштабов могут развиваться в сравнительно узких временных интервалах - малых относительно сроков естественной биологической и тем более геологической эволюции. Деятельность человечества выходит на космические рубежи, и оно начинает интенсивно самоперестраиваться, более или менее сознательно генерируя определяющие факторы своего дальнейшего развития.
Новизна положения подчеркивается соотношением традиционной истории и футурологии. Понятно, что интерес к прошлому во многом обусловлен желанием подальше заглянуть в будущее, а история и футурология, строго говоря,разные проекции единой науки об эволюции человечества.
Так вот, в рамках линейной истории прогноз на будущее не слишком сложен. Достаточно изучив глобальные климатические колебания и фиксируя тип социальных организмов, например, на уровне родоплеменной организации, мы могли бы предвидеть крупные события на тысячи лет вперед. В этой картине было бы резонно считать, что четыре слабых пика ближайшего оледенения (предсказанные на период через 170-350 тыс. лет) несколько усовершенствуют наш вид, а серия значительно более сильных оледенений, грозящих Земле на протяжении последующего полумиллиона лет, заставит человека значительно поумнеть.
Хочется верить, что такой прогноз не будет соответствовать действительности, поскольку человек все-таки не отбросит себя к пещерноохотничьему образу жизни. В рамках же прогрессирующей цивилизации довольно нелепы любые линейные прогнозы. На самом деле человечество, уже сейчас владеющее мощностями почти планетарного масштаба, должно будет решить проблему собственного выживания в ближайшие десятилетия, и отдаленные ледниковые периоды вряд ли успеют оказать какое-либо действие на наш вид - трудно предположить, что при современном прогрессе существующий биосоциальный уровень сохранится не то что на сотни тысяч, но, пожалуй, и на сотни лет.
Одной из важнейших проблем исторической науки является проблема появления систем знания. Если биологические и социальные структуры в смысле своего происхождения естественны, то культура (а, следовательно, и системы знания) - продукт социальной деятельности, так сказать, искусственный элемент, привносимый в природу конкретным обществом. И здесь возникает интереснейший стык истории и философии.
ОТКУДА БЕРЕТСЯ ЗНАНИЕ?
По отношению ко всей современной науке (и астрономии в частности) особый интерес вызывает проблема формирования интеллектуальной сферы, зарождения знания как такового. На протяжении последнего столетия эта интригующая проблема бросает открытый вызов исследователям в самых разных областях. Как объяснить возникновение комплексов знания - обширных подсистем культуры человеческого общества - в рамках общего эволюционного учения.
Очень приближенно ситуацию можно описать следующим образом.
Как известно, приобретенные признаки не наследуются. Поэтому приспособление многоклеточных организмов к изменяющимся условиям внешней среды происходит крайне медленно, требуя многочисленных генетических вариаций, одна из которых закрепляется вплоть до новых существенных изменений. Этим механизмом полностью регулируется изменчивость растительного царства и царства грибов. В животном мире ситуация немного меняется - у не слишком примитивных животных определенную роль начинает играть зачаточная форма социальной организации, они объединяются в стадо или колонию. Это резко повышает уровень приспособления и не только за счет возможности коллективных действий, но и благодаря формированию особого небиологического механизма передачи наследственной информации - обучения.
Читать дальше

![Евгений Примаков - Россия в современном мире. Прошлое, настоящее, будущее [сборник]](/books/27003/evgenij-primakov-rossiya-v-sovremennom-mire-proshlo-thumb.webp)