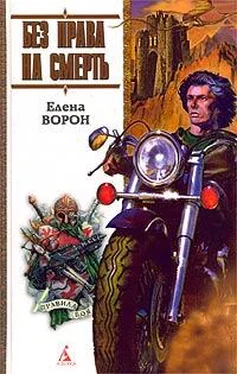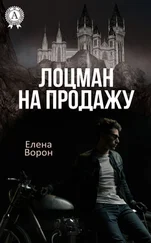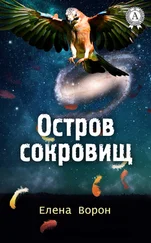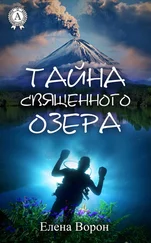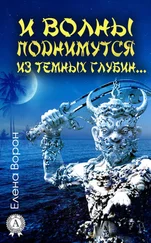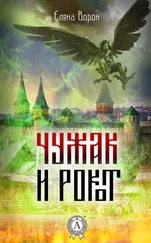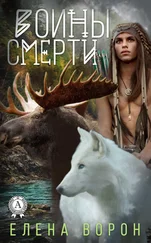— Кто тебя обидел?
— Светлоликая… — Кис качнулась к нему, обняла за шею, прижалась лицом к плечу.
— Что стряслось? — Охранитель мира гладил ее теплые волосы, мысленно перебирая немногочисленное население Дархана. Кто посмел обидеть актрису? Неужто мерзавец Инго? Но не настолько же он безголовый. Или… — Таи? — жестко выговорил Лоцман.
— Да. Ты не представляешь! Она… не скажу дурного про Богиню. Но… Почему она меня не спросила?! — горестно вскричала лайамка.
Летчики озадаченно глядели на охранителя мира. До него начинало доходить, и непрошеная, совсем не уместная усмешка кривила губы. Актриса вздрагивала у него в руках.
— Она сделала тебя женой Таи?
— Да… вместо Дау. А я… я буду ему хорошей женой… и он чудный, замечательный… Но почему она меня не спросила?!
Охранитель мира молчал, стараясь не показать, как он рад за Ловца. С его точки зрения, Таи получил награду по заслугам.
— Ну почему она так? — всхлипнула Кис.
— Видишь ли… Даже самые лучшие Богини редко интересуются мнением своих актеров.
1997-1999 гг.
Не продается вдохновенье,
Но можно рукопись продать…
А. С. Пушкин
Открывая любую книгу, мы видим сразу множество книг. Всякое произведение, независимо от воли автора, вызывает в памяти массу сюжетов, порождает почти бесконечную цепочку ассоциаций, в первую очередь — ассоциаций литературных. Вольно или невольно мы сравниваем, выискиваем параллели и противоречия, скрытые и явные цитаты, аллюзии… Невозможно объективно судить о произведении в отрыве от всего корпуса прочитанного, увиденного, услышанного. Идеальным читателем, вероятно, мог бы стать клон, выращенный в абсолютном культурном вакууме специально для этой цели и незамедлительно списываемый в расход после прочтения первой — и единственной — книги. Собственно, рефлексия, осмысление творческого процесса — один из основных мотивов, во все времена побуждавших художника браться за краски, а человека пишущего тянуться к перу и бумаге (в наше время — садиться за клавиатуру компьютера). К сожалению, в литературе существует не так уж много прямых путей, ведущих к этой цели. Ввести в действие собственное альтер эго или взглянуть на ситуацию глазами литературного героя, страдающего от произвола сочинителя, — выбор, скажем прямо, невелик.
Взаимодействие автора и героя гениально описал в «Мастере и Маргарите» Михаил Булгаков, закольцевав сюжет таким образом, что судьба писателя (Мастера) в конечном итоге зависит от решения центрального персонажа его романа (Иешуа). Мало кто рискнет сегодня состязаться с Михаилом Афанасьевичем на его поле: даже бесспорные классики советской НФ, Аркадий и Борис Стругацкие, позволившие в «Отягощенных злом» (1988) такой рискованный эксперимент, в итоге потерпели поражение. Чуть раньше та же судьба постигла Аркадия Арканова с романом «Рукописи не возвращаются» (1983): популярному сатирику, как часто случается с людьми его профессии, не хватило масштабности мышления и глубины проникновения в суть проблемы.
Нередко наши литераторы, в том числе писатели-фантасты, пытаются взглянуть на процесс творчества, так сказать, изнутри — с точки зрения литературного героя, более-менее осознающего свое уникальное положение. В отечественной фантастике последних десятилетий хватает примеров произведений такого рода: от психологической драмы Ольги Ларионовой «Вернись за своим Стором» до пародии Александра Громова на «космическую оперу» «Всяк сверчок…». В романе-трилогии Сергея Лукьяненко и Юлия Буркина «Остров Русь» в одном из эпизодов и вовсе общаются на равных персонажи сразу нескольких классических произведений, что позволяет авторам создать мощный комический эффект. Однако оригинальным этот ход, при всем желании, не назовешь: можно припомнить хотя бы знаменитое путешествие Александра Привалова в Описываемое Будущее, где мирно сосуществуют полупрозрачные герои из утопий и антиутопий всех времен и народов.
Ограниченность набора приемов не мешает создательнице романа «Без права на смерть» виртуозно использовать весь арсенал имеющихся в наличии средств. Центральная интрига романа проявляется далеко не сразу: Елена Ворон умело использует отвлекающие ходы и лихие повороты сюжета, раз за разом сбивая читателя со следа. Непросто угадать, который из «вечных вопросов» сильнее всего беспокоит автора: причудливо переплетающиеся сюжетные линии, на первый взгляд, совершенно не связаны друг с другом; обитатели Поющего Замка, и космолетчики-дарханцы живут в совершенно разных эстетических пространствах, в разных, почти не пересекающихся плоскостях. То, с какой виртуозностью Елене удалось свести их вместе и заставить действовать сообща, можно назвать несомненной удачей писательницы.
Читать дальше