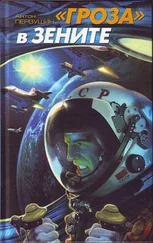Вот два контрастных примера.
Совсем еще юный Вячеслав Рыбаков начинал с повести, продолжавшей лемовский «Солярис», но впоследствии, готовя ее к публикации, понял, что произведение совершенно самостоятельно, и все литературные отсылки искусно изъял. А впоследствии лишь единожды обратился к чужому литературному материалу, участвуя в издательском проекте «Время учеников» по мотивам творчества братьев Стругацких. [7]Впрочем, это была уже не детская зачарованность, не постмодернистская литературная игра, но просто дань уважения и восхищения воспитателям своего поколения. Так что перед нами — случай нормальной детской болезни.
Иное дело — американец Филип Джоуз [8]Фармер. Ему всю жизнь надо было перетолмачивать на свой лад то Жюля Верна, то Жозефа Рони-старшего, то Эдгара Райса Берроуза; то обращаться к образам, рожденным воображением Германа Мелвилла, то приписывать собственный роман перу придуманного Куртом Воннегутом писателя-фантаста Килкгора Траута, то делать своим соавтором другого фантаста — Лео Квикега [9]Тинкраудера, первоначально являвшегося персонажем одного из фармеровских же романов… Тут перед нами уже явный хроник.
На этой шкале Антон Первушин пребывает где-то посередине — то ли у него чуть затянувшаяся детская болезнь, то ли легкая форма хронической: потребность использовать, обыгрывать, вплетать в свое повествование кем-то уже вымышленное он ощущает по сей день и не так давно даже испросил у меня разрешения использовать в очередном романе Биармию — страну, придуманную в «Распечатывателе сосудов». Но если вы внимательно приглядитесь к «Войне по понедельникам» и «Чужакам в Пеллюсидаре», то обнаружите, что — в отличие от Фармера и ему подобных — Первушина преимущественно интересует заемный антураж, словно автору жаль времени и усилий на их измысливание и продумывание, тогда как герои и идеи у него изначально [10]собственные.
К ним и перейдем.
III
В умы и души поколения, для которого смерть Отца народов не личное воспоминание, а только исторический факт, взросшего в гиперстабильных условиях брежневского «развитого социализма», грянувшие с перестройкой скорые перемены внесли куда больше смятения, чем это можно было предсказать. Казалось, это о нем, томившемся дотоле в тенетах «застоя», гневно судившем тоталитаризм, алкавшем выхода на простор, шиллеровские слова:
Назад с тоскою он взглянул
И по тюрьме своей вздохнул.
Вздохи, правда, начались не сразу — на это понадобилось два-три года. На первом этапе захотелось просто осмыслить прошлое, взглянув на него уже не изнутри, но с некоей отстраненной точки зрения. У Антона Первушина такой попыткой стали «Чужаки в Пеллюсидаре» (1990—1992) и «Война по понедельникам» (1992—1993).
Правда, уподобляясь мольеровскому портному, он мерил не саму уходящую реальность, а ее отражение в зеркале — зеркале НФ. В первом варианте «Чужаки…» имели название «Повесть об ирреальности» и рождением своим, как ни странно это звучит, были обязаны «Миру Реки» упоминавшегося несколько выше Филипа Джоуза Фармера. Связь, впрочем, чисто ассоциативная — как при движении вверх по Реке, по мере проникновения героя в Пеллуцидар, обстановка этого последнего становилась все ирреальнее и сюрреалистичнее. Но в процессе многократных переработок и переписываний первоначальный замысел радикально изменился, придя к варианту, который вы можете прочесть сейчас. Собственно, кирпичи, из которых возведено здание плутонического мира, отлично узнаваемы, а для совсем уж неначитанных автор в последних строках напрямую приводит перечень некоторых (хотя и далеко не всех) своих доноров-вдохновителей. Но это не лихая постмодернистская игра. Главное здесь — пронизывающее весь текст ощущение недоступного рациональному постижению хаоса окружающего. И в нем, в хаосе этом, идеи и образы, ранее казавшиеся привлекательными и, может быть, даже спасительными, совершенно бесплодны и бессильны, как тщетны любые попытки приложить эвклидовы штудии к миру, где параллельные прямые могут пересекаться под любым углом. И славным витязям, этим отважным жертвенным [11]диссидентам, не остается ничего иного, как, подбадривая себя красивыми словами, глотать самогон. Бессилен всяк Муравей-однодневка, вознесенный к вершинам всевластия, но имманентно неспособный эту власть реализовать в мало-мальски осмысленных формах. Бессилен даже Колдун, этот мир сотворивший, ибо против хаоса, как и против глупости (опять Шиллер!) бессильны бороться даже боги. И бессилен герой, мечтающий об одном — вернуться в привычное бытие, из которого он был вырван не по своей воле. И неважно совсем, что не Золотой шар, а прозрачно нареченный протагонист Антон П. тщетно пытается дать счастье, счастье всем сразу, прямо сейчас, и чтобы никто не ушел обиженным — Антон Первушин прекрасно понимает всю безысходную неосуществимость этого тезиса, рожденного неверием и отчаянием.
Читать дальше