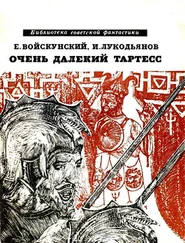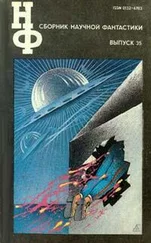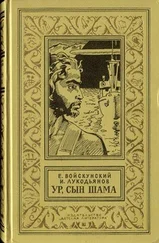— Я рад, что повидал вас, Ася и Миша, — говорит Круглов. — Живите долго и хорошо. — Он смотрит на часы. — Пойдем, Галя. Проводи меня.
Они выходят из калитки на улицу и останавливаются, невольно захваченные зрелищем ночного моря, перечеркнутого широкой серебряной полосой. Полная луна взирает с высоты на Карабурун — город, прильнувший к теплой бухте. И так ярок сегодня лунный свет, что еле заметны фонари на улице Сокровищ моря, а на ступенях каменной лестницы видна каждая трещинка.
Круглов и Галя медленно спускаются по лестнице. Он держит ее руку крепко и бережно. И кажется ему, что вышли просто на прогулку, как до них ходили по этой старой лестнице тысячи и тысячи людей, одетых в древнегреческие хламиды, а потом — в бархатные генуэзские плащи, и в татарские одежды, и в военную форму, и, конечно, в голубые джинсы — такие, какие на Галине.
В такт шагам Круглов бормочет чуть слышно:
— Шел высокий человек маленького роста… весь кудрявый, без волос… тоненький как бочка… Шел высокий человек…
Вот же привязалась к нему эта считалка, дразнилка эта из давнего, полузабытого детства. С Игорем спускались как-то по лестнице, разговор пошел о детских считалках, и он, Круглов, вспомнил. Шел высокий человек маленького роста…
«Милый Игорь, прости меня. Знаю, тебе будет тяжело, когда ты узнаешь… И мне трудно с тобой расставаться… Я ведь мысленно рассказал тебе всю свою жизнь. Я рассказывал тебе, стоя по вечерам у раскрытого окна своей комнаты. И сегодня — стоя на карнизе, над обрывом… перед тем, как ты позвал меня… Я очень к тебе привязался, Игорь. Прости меня, дружок».
Спустившись к морю, Круглов и Галина проходят мимо двери, запирающей вход в грот, мимо затейливой вывески «Сапожник Филипп обслужит вас с качеством». Вот пляж — крохотный, зажатый скалами треугольник. Они садятся на круглый камень, еще хранящий тепло ушедшего дня. С шорохом набегает на пляж несильный прибой. В лунном свете поблескивает мокрая галька. Справа виднеется цепочка огней на набережной, освещенный куб морвокзала.
— Мы часто купались здесь с Игорем, — говорит Круглов.
Галя не отвечает. Да что с ней такое? Впала в оцепенение, молчит и молчит. Круглов обнимает ее за плечи, притягивает к себе.
— Галочка, милая, прости меня.
Она молчит. Смотрит на темное море. Но луна такая яркая сегодня, что не скроешь муку в глазах.
— Прости, что не сказал… что бежал… что вообще позволил себе… Галка, я очень перед тобой виноват…
— Тебе не в чем себя винить. — Она разжимает наконец губы. Помолчав, говорит очень тихо: — Ты виноват только в том, что хотел осчастливить человечество, не подумав, а нужно ли это ему.
— Я был уверен, что нужно. И твой отец был уверен. Ступенчатый износ — правильная идея. Если бы не… Впрочем, хватит об этом. В моих тетрадях все подробно написано. Ты отвези их…
— Я сожгу их.
— Галочка, — говорит он после паузы, — я хотел бы, чтобы остался какой-то след… след моей жизни… Но если ты считаешь, что надо все уничтожить… Наверное, ты права. Все тлен, все прах… кроме одного. Я люблю тебя.
— Я люблю тебя, — повторяет она, как горное эхо, и поднимает лицо к небу, полному звезд. — Поцелуй меня.
Круглов целует ее и гладит, как маленькую, по голове.
— А теперь мне пора.
— Что — пора? — Она смотрит на него, широко распахнув глаза. — Юра… сегодня еще восемнадцатое.
— Не могу ждать. Невозможно. — Он сбрасывает с себя одежду, снимает с руки часы. — Пойду. Жизнь вышла из океана. Вот и вернусь в родную стихию.
— Не пущу! — Галя, вскочив, обхватывает его руками. — Не пущу, не пущу, не пущу! — исступленно кричит она.
Круглов гладит ее по голове, по плечам. Теперь он запрокинул лицо вверх, к звездному рою.
Решительно отводит ее руки и входит в воду вслед за откатывающейся, словно приглашающей волной.
Галя, плача, бежит за ним.
— Будь умницей, Галка. — Он поплыл. — Живи долго! — кричит он из воды. — А я хочу доплыть до выхода из бухты.
Стоя на берегу, Галя еще некоторое время видит его голову и руки, мерно появляющиеся в лунном свете. Потом темнота поглощает Круглова. Но еще долго она слышит тихий плеск воды под его руками.
А может, это просто плеск прибоя.
1991–1992