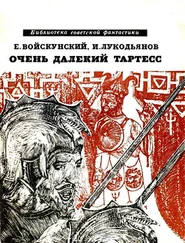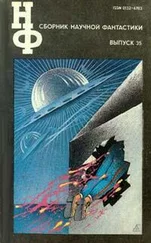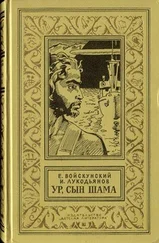— Она только что вышла, Юра…
В передней щелкает замок. Круглов с трубкой у уха смотрит на вошедшую Машу и говорит:
— Понятно. Она только что вышла от тебя, села на самолет и мигом прилетела домой. Спокойной ночи, Люба.
Кладет трубку. Маша, надев домашние туфли, поправляет перед зеркалом прическу. Она, разумеется, сразу поняла смысл того, что сказал в трубку Круглов, но ничем не выказывает ни смущения, ни смятения. Маша — абсолютно спокойна.
— Вы поужинали?
— Да, — отвечает Круглов, задумчиво глядя на нее. — Мы с Костей пили чай и ели чайную колбасу.
— Пойду тоже попью. Костя, умываться и спать. Слышишь?
— Угу. — Костя на диване переворачивает страницу.
* * *
В кухне Круглов, прислонясь к косяку двери, смотрит как Маша ставит на газ чайник, вынимает из холодильника еду.
— Попьешь чай?
— Попью. — Он садится за стол. — Почему не попить чаю со своей женой поздним вечером.
— Не такой уж поздний. — Маша ставит перед ним стакан чаю и садится напротив. — Что ты уставился на меня? Хочешь спросить, где я была?
— Ты была у Любы.
— Нет, — говорит она после небольшой паузы. — Нет, — повторяет тихо. — Надоело врать. Ох как надоело! Давно хотела тебе сказать…
— Не надо, Маша.
— Почему не надо? Тебя устраивает мое вранье? Нет уж, милый. Скажу. Не могу больше… Я тебе изменила. Только не думай, что я просто…
— Знаю. — Круглов сидит с опущенной головой, обеими руками держа стакан с остывающим чаем. — Ты не просто. Ты полюбила другого человека.
— Режешь по живому, Юрочка… Ну, раз ты такой проницательный, то… Сил нет больше, понимаешь, нет сил… Это вечное неустройство… без своей квартиры, без денег… извини, без надежды, что станет лучше…
— Да, да, понимаю.
— Что ты понимаешь? — с горечью говорит Маша, еле сдерживая слезы. — Если б ты понимал, ты бы давно все получил… Все, что тебе полагается — по уму, по таланту… по твоим, наконец, военным заслугам… Так ведь ничего! Ровным счетом ничего для семьи не делаешь! Все для человечества! Не меньше! Как будто я… мы с Коськой… не часть человечества…
Теперь она, уже не таясь, плачет.
— Да, да, — потерянно кивает Круглов. — Ты права. Я во всем виноват, я один… безнадежный неудачник… обитатель чужих квартир… тунеядец…
— Что ты несешь? — Она всхлипывает. — При чем тут тунеядец?
Круглов встает, подходит к раскрытому окну, к подоконнику, где спит в горшочках чужая герань.
— Машка, я все понимаю. Ты права. Ты… уйди к нему. Рогачев благополучный человек, он сделает тебя счастливой.
Маша замирает с платком у глаз.
— Откуда ты знаешь, что это Рогачев?
— Не знаю, — глухо отвечает Круглов, стоя к ней спиной. — Вдруг меня осенило.
Пауза. За колышущейся занавеской тихо нисходит белая ночь. С улицы доносится летучий женский смех.
Маша вдруг вскакивает, порывисто бросается к Круглову, припадает к нему, и плачет, и говорит сквозь слезы:
— Юрка, не смей… не смей меня гнать к нему… слышишь?.. Хороший мой, родной…
На них, раскрыв рот, смотрит Костя, возникший на пороге кухни.
И еще одна белая ночь — одна из тех ночей, когда так сильно, так глубинно ощущаешь вдруг, что мир устроен прекрасно, но совсем не просто.
А вернее, еще не ночь за окном, а долгий летний вечер. В квартире Штейнбергов идут сборы. Леонид Михайлович набивает вещами большой «абалаковский» рюкзак. Возле серванта Вера Никандровна занята упаковкой посуды. Перед тем как уложить в картонную коробку, она завертывает каждую чашку и тарелку в газету. А Галя собирает в дорогу своих кукол: одевает и укладывает их в пеструю сумку и разговаривает с ними, просит лежать спокойно, не баловаться.
— Все-таки позвони Рогачеву, — негромко говорит Вера Никандровна. — Может, Маша знает, куда он подевался.
— Станет Рогачев сидеть в субботу дома, — отвечает Штейнберг. — На даче они. Да и, не сомневаюсь, не знает Маша.
— А вдруг? Позвони, прошу тебя.
С явным неудовольствием тянется Штейнберг к телефону. Набирает раз, другой — нет, не отвечают. Он бросает трубку, закуривает.
— Прямо душа не на месте от того, что мы уезжаем, не простившись с Юрой, — говорит Вера Никандровна.
— Это у них, у боцманов, так заведено, — ворчит Штейнберг. — Вдруг исчезают… — Он подходит к книжным полкам. — Давай все же возьмем немного книг. Я бы Гоголя взял, Стивенсона…
— Леня! Уговорились ведь — летим налегке. Только минимум вещей и посуды.
— Ну хоть Ильфа — Петрова…
— Нет. За книгами и остальными вещами приедем зимой. Если устроимся за это время.
Читать дальше