– Бедный. Так и не привык, – сказала про него Таисия. Опять взяла Конкина под руку и, наклонившись к плечу, шепнула, заранее напрягаясь. – У тебя все в порядке? Я прямо-таки испугалась, когда ты позеленел. Думала – приступ, рецидив болезни. Честное слово, уже хотела бежать за врачом. – И не дождавшись ответа, потому что Конкин лишь недовольно поморщился, вздохнув, добавила. – Они ведь, по-моему, и рождаются в зоопарке? Настоящего леса никогда не видели – откуда такое упорство?
– От бога, – неприязненно сказал Конкин.
– Ну знаешь ли: бог – в медведе…
Конкин пожал плечами:
– Я же не говорю: Христос. Бог – как нечто. Как субстанция, отличающая живое от неживого.
– То есть, душа? – сказала Таисия.
– Называть можно, как угодно.
Таисия опять вздохнула.
– Мне иногда кажется, что ты – верующий. Но не просто верующий, а из секты – еретиков. Из такой маленькой, яростной, тайной секты, абсолютно непримиримой к обычной религии и признающей только свою правоту…
– Так оно и есть, – сказал Конкин.
– Что же это за секта?
– Это – секта людей…
Он еще хотел добавить, что это действительно – очень маленькая и очень яростная, тайная секта, но неукротимая ярость ее обращена не на других, а прежде всего – на себя, однако в эту минуту медвежонок, пробующий клетку на прочность, дошел до них и, просунул сквозь непоколебимость ограждения остренькую фиолетовую мордочку, посмотрел ему прямо в глаза.
И такая тоска светилась в остекленевшем, как бы не от мира сего, отсутствующем взгляде, что Конкин даже сощурился, не перенеся печали его, а когда снова открыл глаза, то все уже изменилось.
Тусклое коричневое солнце, надрывающееся, словно через ворсистую ткань, еле-еле, с трудом озаряло окрестности. Воздух был сумеречен и пропитан звериными испарениями. Он скорее походил на студень: красное переливающееся желе и, размытые струями, проступали в нем какие-то дикие сооружения – в перекошенной арматуре, сплетенные колючей проволокой – а за ржавой и страшной, окопанной преградой ее, будто змеи шипя и посверкивая осатанелыми глазами, пережевывая челюстями сиреневую слюну, бесновались и маялись фантастические уроды.
Они были в крокодильей коже или, наоборот, покрытые шерстью с головы до ног, ощетиненные клешнями, щупальцами и когтистыми образованиями, все они шевелились – выламываясь, вытягиваясь вперед – а над бородавками, изъязвившими многих из них, пузырилась фосфоресцирующаяся слизь.
Картина была чудовищная. Но главное заключалось не в этом. Главное заключалось в том, что вокруг Конкина опять находились те самые загробные существа, что, как в бреду горячечного больного, чудились ему совсем недавно. И одно из этих существ держало его под руку, а другое, значительно меньших размеров, вдруг схватилось за палец и пронзительно запищало:
– Во дает!.. Во, папа, куда забрался!..
Вместо голоса раздавалось кошачье мяуканье. Конкин едва различал слова. А затем третье существо, обросшее чем-то вроде мелких густых пружинок, неожиданно выступило из толпы и, приблизив растрескавшееся, как глина в жару, лицо, прошипело, покачиваясь и приседая:
– Вам, плохо, сударь?..
Губы у него были из вывернутого живого мяса.
Конкин отшатнулся.
И тогда то существо, которое держало его под руку, – бледно-розовое, обмотанное тряпками с ног до головы – с неестественной силой повернуло его к себе и, вонзившись ногтями в предплечье, мучительно проурчало:
– Все, все, уходим!..
Звонок он услышал, когда пересекал школьный двор, и уже в вестибюле ему пришлось посторониться, чтобы пропустить хлынувшую наружу, галдящую и размахивающую портфелями, растекающуся ораву школьников. Вероятно, занятия на сегодня кончились, потому что мальчики беззаботно тузили друг друга, затевая, еще не выйдя из здания, уличную игру, а пищащие, гримасничающие, сбивающиеся в стайки девчонки с облегчением сдергивали банты, распуская таким образом волосы по плечам.
Чувствовалось, что всех охватывает настроение отдыха и веселья.
Впрочем, не всех.
Мрачный учитель, якобы просматривающий вывешенное на доске расписание, а на самом деле, как сразу же понял Конкин, незаметно наблюдающий за вестибюлем, шагнул к нему и, быстро опустив руку в карман пиджака, сухо, неприязненно спросил его:
– Что вам угодно, сударь?
Уже по одному этому "сударь" можно было догадаться, что он – "гуманист". Конспираторы хреновы, подумал Конкин. Однако вида подавать не стал, а напротив, тихо и значительно, как его учили, произнес:
Читать дальше
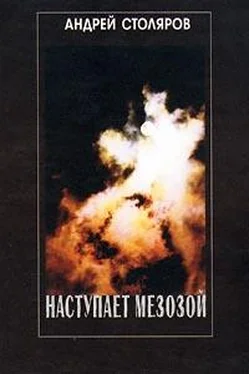


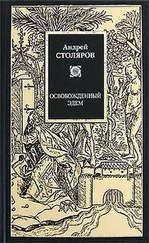



![Андрей Столяров - Боги осенью [Авторский сборник]](/books/395773/andrej-stolyarov-bogi-osenyu-avtorskij-sbornik-thumb.webp)
