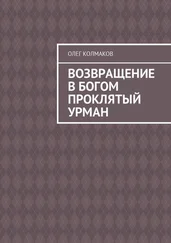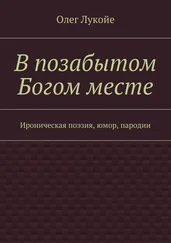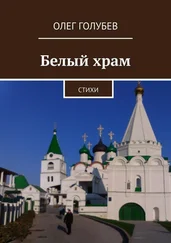На третий день он находит меня. Наверное, это причуда загробной географии, на этом берегу мы оказываемся с разбросом в три дня пешего пути, хотя в час «Ч» находимся намного ближе друг к другу. Молча курим — я свою бесконечную сигару, он — трубку. Его люди молча стоят за его спиной. Мои — насколько хватает глаз — лежат и сидят на своем последнем берегу; и где-то на середине реки скрипит уключина.
— Что, опять не получилось, Иван? — в который раз спрашиваю его.
— Да, Джон, не получилось, — отвечает он, пристально всматриваясь в приближающуюся к берегу лодку.
— Двадцать второго утром наш президент сказал то же самое — ваши ракеты на острове и мы обьявляем блокаду.
— У нас тоже без изменений, ТАСС обьявляет о провокации, потом бац — и я здесь, — он выпускает изо рта кольцо дыма, кольцо медленно тает, перемешиваясь с серым туманом. Здесь все из тумана, кроме реки, лодки и ее кормчего. Люди тоже состоят из тумана, я сам туман, туман же у меня в голове, и в прямом, и в переносном смысле. Я не очень четко помню, кто я и что я, свои прежние мысли и чувства я вижу словно сквозь серую завесу. Через саван смерти. Мы все умерли, и не по одному разу. Смотрю на своего призрачного собеседника, и, кроме серого тумана угасания и смерти, чувствую в нем ту же решимость, которую чувствую в себе — пробовать еще раз, и еще, пока кости не лягут по-другому, пока у нас не получится. Потому что так, как сейчас, быть не должно, а кроме нас, исправить это некому. Лодка бесшумно причаливает к берегу, и Последий Кормчий спрашивает: — Ну что, центурионы, готовы?
— Готовы! — отвечаем мы хором.
* * *
На третий день терпение Харона лопнуло. Он бросил весло поперек лодки, и, размахивая руками, принялся кричать и ругаться. На латыни брань звучала, как католическая молитва. Испуганный солдатик жался на носу скрипящей и раскачивающейся лодки, пряча голову в воротник гимнастерки. Он был ни в чем не виноват, и я заступился за своего подчиненного. То, что мы оба были мертвы, ничего не меняло. Для меня, по крайней мере.-
Что это такое и когда все это кончится! — кричал Харон, отчаяно жестикулируя, — Что это за тени пошли, Цербер их сожри! Мало того, что говорят на наречии северных варваров, мало того, что с ошибками, мало того, что светятся, так еще и вместо звонкой монеты норовят подсунуть какие-то зеленые бумажки!
— Я попросил бы вас, сэр, не орать на моих солдат, — сказал я ему, вынув сигару.
— А ты кто такой, забодай тебя Минотавр?! — набросился он на меня, оставив в покое рядового, что мне и требовалось. — Бригадный генерал Джон Маркони, сэр, к вашим услугам.
— А, — обрадовался он, — так это ты во всем виноват!
— Частично, сэр. Эти люди находились под моим командованием, и я чувствую ответственность за их судьбы даже здесь. Я думаю, что могу ответить на все ваши вопросы. Мы американцы, говорим на английском, светимся из-за радиации, а те бумажки, что вы выкинули в реку — это американские доллары.
— И сколько же их, этих людей? — заинтересовался он.
Я понял, о чем он думает. За те трое суток, что мы здесь, он успел переправить на ту сторону едва ли полсотни.
— Я думаю, сэр, что через пару дней здесь будет миллиарда четыре.
Он мешком свалился в лодку и уселся, обхватив голову руками.
— Это конец света, — прошептал он.-
Вот именно, сэр, вы правильно оценили ситуацию.
— Надо что-то делать! — вскочил он на ноги.
— У меня есть идея, — раздался голос из тумана.
— Это еще кто? — удивился Харон.
— Мой противник, вероятно, — ответил я. Он подошел ближе, и, вынув трубку изо рта, усмехнулся:
— Теперь мы все в одной лодке.
* * *
Первым в лодку поднимаюсь я, за мной мой бывший враг. Бывший, потому что теперь это друг и союзник. Вражда наша зашла слишком далеко и теперь не имеет смысла. Сейчас смысл имеет только одна вещь — жизнь. Но ее у нас уже нет. У нас есть только надежда, надежда на жизнь. Мы центурионы надежды. Наши люди прыгают в лодку следом, привычно рассаживаются вдоль бортов. Я взял с собой отделение «морских котиков», а люди Ивана похожи на моих, как братья-близнецы. Харон отталкивается от берега веслом, и лодка тихо скользит по черной поверхности Стикса, сквозь туман. Сколько это продолжается, я не знаю — время здесь символ, тотем, хищная тварь. Вот она появляется из тумана — змея, пожирающая свой хвост. Утробное чавканье Урбоса заглушает все другие звуки, переговариваться можно только знаками. Мы прыгаем, оскальзываясь на чешуе, пробираемся к голове твари, к той точке, где «сегодня» превращается во «вчера», а «жизнь» — в «смерть». Мои парни, уперевшись ногами в нижнюю челюсть ненасытной твари, рывком приоткрывают ей пасть, а люди Ивана, обхватив хвост, тянут его назад, изменяя ход времени. Урбос, вырванный из нирваны самоедства, недовольно ревет, дергается, разбрасавая нас, и ныряет. Прежде, чем коснуться черной воды, я успеваю подумать: «Только бы получилось!».
Читать дальше