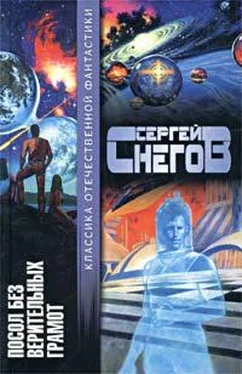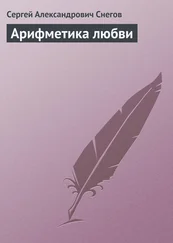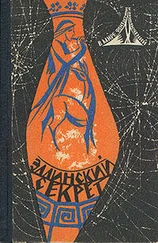Сергей Снегов
Огонь, который всегда в тебе
Создателем индивидуальной музыки общепризнан Михаил Потапов. На концерте Потапова – он состоялся первого мая 2427 года по старому летосчислению – изумленное человечество познакомилось с новой и такой ныне популярной формой музыкального самозвучания (Потапов, как известно, употреблял термин «музыкальное самопознание»). Но не стоит думать, что новая форма музыки появилась сразу, как Афродита из морской пены. У великого творения Потапова есть не только история, повествующая о том, как оно заполонило в короткий срок умы и чувства, но и предыстория – и, к сожалению, трагическая.
Недавно разбирали архив известных физиков прошлого века – братьев Генриха и Роя Васильевых. Среди прочих документов нашли в нем и материалы, которые бросают свет на истоки индивидуальной музыки. Материалы эти будут опубликованы в сорок седьмом круге пленок «Классики науки», а здесь мы воспроизведем лишь речь Роя на собрании членов Общества классической музыки. Речь эта никогда не передавалась в эфир и не печаталась на официальных пленках общества. Возможно, это объясняется тем, что классическая музыка, сегодня снова имеющая немало поклонников, в те годы была почти полностью позабыта и собрания ее немногочисленных адептов не привлекали к себе широкого внимания.
Ниже дан сохранившийся текст речи; начало, к сожалению, утрачено.
«…Это произошло незадолго перед последней болезнью Генриха. Он уже прихварывал: ранения, полученные при загадочной аварии звездолета на Марсе, – тайна, впоследствии им же с таким блеском распутанная, – были залечены, но не преодолены. Внешне Генрих оставался бодрым, красивым, быстрым, но я уже смутно догадывался, куда идет дело, и в один нехороший день – я потом объясню, почему он нехорош, – силой вытащил брата из лаборатории.
– Ты дурак, Генрих, – сказал я. – А я скотина. Не спорь со мной. Я не терплю преувеличений и если говорю, то объективную истину.
– Я не спорю, – возразил он кротко. – Но я хотел бы знать, что тебе от меня надо?
– Сейчас мы выйдем наружу. И будем ходить по городу. И погуляем в парке. А возможно, слетаем на авиетках к морю и покувыркаемся на волне. И если мы этого не сделаем, я буду чувствовать себя уже не скотиной, равнодушно взирающей, как брат неразумно губит себя, а прямым убийцей.
Он с минуту колебался. Он глядел на приборы с грустью, словно расставался с ними надолго. Мы в это время исследовали записи второго механика звездолета «Скорпион», единственного человека, оставшегося в живых после посадки галактического корабля на планетку Аид в системе Веги. Загадок была масса, многие не разъяснены и поныне, а тогда все казалось чудовищно темным.
Генриху не хотелось бросать эту работу ради прогулок, мне тоже не хотелось, но это было необходимо, так ослабел Генрих. И я бы за шиворот оттащил его от приборов, если бы он не уступил.
Но он покорился, и мы вышли за город. Я не буду описывать прогулку. Самым важным в ней, как вскоре выяснилось, было то, что, на общую нашу беду, мы повстречали в парке Альберта Симагина.
Он несся по пустынной аллее, словно запущенный в десять лошадиных сил. У него был полубезумный вид, рот перекосился, он молчаливо, без слез, плакал на бегу. Генрих остановил Альберта. Генрих дружил с ним еще в школе. Мне же в Альберте не нравилась несдержанность, слишком громкий голос, глаза тоже были нехороши: я не люблю хмурых глаз.
– Откуда и куда? – добродушно спросил Генрих. Я особо подчеркиваю добродушие тона, с Альбертом Генрих всегда разговаривал только так. Я и сейчас не понимаю, чем этот шальной фантазер привлекал Генриха.
Альберт закричал, будто о несчастье:
– Из музея! Откуда же еще?
– Зачем же бежать из музея?
Как вы понимаете, это спрашивал Генрих, а не я. Я лишь молча рассматривал Альберта.
– Ничего ты не понимаешь! – произнес Альберт яростно. – Просто удивительно, как некоторые люди бестолковы!
– Объясни – пойму.
Объяснением путаную, шумную речь Альберта можно было назвать лишь условно.
Я понял одно: в музее Альберт рассматривал четверку несущихся коней – недавно законченную картину Степана Рунга, не то «Фаэтон на взлете», не то «Тачанки в походе», названия не помню.
Лихие лошадиные копыта сразили Альберта. Он ошалел от облика коней, его истерзала экспрессия бега, опьянила музыка напрягшихся мускулов – именно такими словами он описал свое состояние. Картина ему звучала, он не так видел, как слышал ее. Он сказал: «Трагическая симфония скачки». С этого и начался его спор с Генрихом. Генрих удивился:
Читать дальше