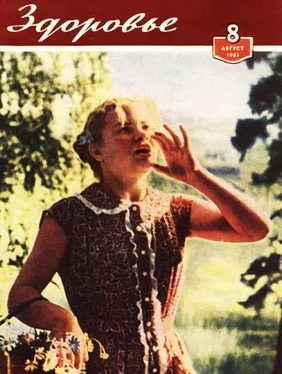С тяжелым чувством закрывал он последние страницы журналов и книг. Это чувство было не только разочарованием…
Человек сдержанный и немногословный, Коновалов лишь через много лет рассказал о том, что пришлось ему пережить и передумать в ту пору. В традиционный академический строй одной из многочисленных его научных статей ворвалось несколько горячих, с литературным блеском написанных строк.
Коновалов живо вспомнил и клинику профессора Л. О. Даркшевича, состоявшую из двух палат в темной и неуютной больнице, и неизменный порядок, в котором входили и выходили из палат профессор, ассистенты, ординаторы, и тот день, когда этот порядок нарушила няня, катившая по серому дощатому полу коляску с больным стариком, и глаза этого старика, тоскливо, исподлобья смотревшие на людей в белых халатах. Вспомнил он и больную П. — Ирину Пузыреву — и то, что прочел о ее страдании. В безапелляционных утверждениях ученых молодому врачу послышалась тогда «не только трусость, но и лживость мысли, объявлявшей научным фактом то, что было всего лишь предположением. После чтения руководств и статей о гепато-лентикулярной дегенерации еще острей становилась жалость к больной, но появлялось и чувство стыда за несовершенство медицины».
Стыд, жалость к больной, решимость, любовь к своей, пусть еще несовершенной науке — вот из чего состоял сплав мыслей и чувств, толкнувших его на трудные и долгие искания.
Коновалов тщательно изучал и сопоставлял все кем-либо описанные случаи гепато-лентикулярной дегенерации. Сам искал таких больных, методично и пунктуально обследуя их, устанавливая обстоятельства заболевания, его ранние признаки, состояние здоровья всех членов семьи…
Если наблюдательность — необходимое оружие каждого врача, то для невропатолога она трижды необходима. Ведь не так уж много средств есть в его распоряжении для того, чтобы обнаружить скрытые, глубинные процессы, коснувшиеся столь сложного и тонкого устройства, как человеческая нервная система.
Как иные бывают одарены талантом петь, рисовать, слагать стихи, так Коновалов одарен талантом наблюдать. От его неторопливого, испытующего взгляда не ускользнет ни одна малейшая особенность поведения и состояния больного, ни один, казалось, несущественный штрих.
Коновалов считает, что он обязан узнать о больном все, что только можно узнать на современном уровне науки. Из клинициста он превращается в биохимика, патологоанатома, электрофизиолога, сам изучает сотни препаратов мозга и печени, проделывает тысячи сложных анализов и исследований.
Долгое время Николай Васильевич работал почти один. Потом в Институте неврологии ему стал помогать большой коллектив ученых. Проблема, когда-то казавшаяся «бесперспективной», нашла своих энтузиастов…
В 1948 году из печати вышла книга Н. В. Коновалова, посвященная гепато-лентикулярной дегенерации, в 1960 году — вторая, удостоенная ныне Ленинской премии.
Как из мельчайших крупинок бисера, подобранных и нанизанных терпеливой рукой, складывается отчетливый узор, так из множества фактов, собранных воедино, поставленных во взаимную связь, прошедших через горнило беспощадной проверки, сложилась новая теория заболевания.
Действительно, при гепато-лентикулярной дегенерации, или, как более точно называет ее Коновалов, гепато-церебральной дистрофии, страдают печень и мозг. Но не потому, что они порочны от рождения.
Ученый установил, что патологически измененные у таких больных клетки мозга бывают такими не от природы — они формируются из вполне нормальных, здоровых клеток. Не самую болезнь, а лишь фон, на котором она может развиться, получает человек по наследству. И фоном этим являются общие особенности организма, его конституция, характер обмена веществ.
Важно, что наличие такого фона вовсе не означает неизбежности заболевания. Для того чтобы оно развилось, нужен еще какой-то внешний толчок.
«Как молния поражает самое высокое дерево, так и внешние вредности становятся причиной болезни при том условии, что им соответствуют функциональные особенности организма», — пишет Коновалов.
Среди этих «внешних вредностей» первое место ученый отводит заболеваниям печени и, в частности, инфекционному гепатиту.
Инфекционный гепатит заразителен: особенно восприимчивы к нему дети; если в семье заболеет один ребенок, нередко заболевают и другие. Вот одна из причин «семейности» гепато-церебральной дистрофии: и фон, и толчок оказываются здесь одинаковыми.
Читать дальше