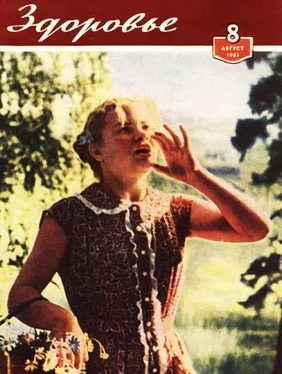Мне удалось побывать с группой туристов в сердце Памира — на леднике Федченко — одном из самых больших ледников мира, на Дарвазе (Западный Памир), на леднике Гармо — у южных склонов высочайшей вершины СССР — пика Сталина, в районе пика Мраморной стены на Тянь-Шэне. Участники нашей группы бывали раньше и во многих других горных районах СССР.
К туристским походам мы готовимся задолго до лета: зимой — лыжи, а осенью и весной — однодневные походы по Подмосковью.
Итак, мы готовились к переходу через Твиберский перевал и выжидали благоприятной погоды.
И вот мы медленно поднимаемся на перевал, вокруг ослепительно сияют вершины, вдали видна седловина перевала. Еще одно усилие, последний снежный гребень, и перевал пройден. Мы начали спуск.
Сначала снежники, еще ниже ледники, свободные от снега, по «им несутся стремительные ручьи. Первая ночевка после перевала была на лесной поляне, называемой «Южной палаткой». Развели костер, приготовили обед, и не успели еще как следует подкрепиться, как разразилась гроза, под шум которой мы и уснули в своих палатках.
На другой день мы продолжали движение вниз к теплу, к зелени, к морю. Дорога идет лесом, ее пересекают ручейки, стоят огромные пихты и ели, благоухает пышная южная растительность. Приятно и радостно, что удачно прошли перевал. Есть еще порох в пороховницах!
Четыре дня по горам, лотом на попутных автобусах. И вот море!
До свидания, горы! Мы не прощаемся с вами. Мы еще вернемся!
В походе мы подружились и продолжаем дружить. Мы будем встречаться, обсуждать планы будущих летних походов — это настоящий здоровый отдых.
Читатель, а разве вам не нравятся такие походы? Поедемте с нами!
Доктор технических наук С. В. Страхов

Единственное, на чем сходились все, кто изучал эту болезнь, было признание ее безнадежности. Все остальное вызывало споры. Ее даже называли по-разному: одни — псевдосклерозом, другие — болезнью Вестфаль-Штрюмпеля, третьи — прогрессивной лентикулярной дегенерацией.
Впрочем, как бы это ни называлось, для больного было одинаково страшно: человек становился совершенно беспомощным, теряя иногда не только физические силы, но и умственные способности.
Сильнее были эти расстройства или слабее, быстрее они развивались или медленнее, — исход был одинаково печален.
Порой болезнь с беспощадной настойчивостью выбирала свои жертвы в одной семье, поражая нескольких детей подряд. Англичанин Вильсон описал заболевание двоих братьев, голландец Геюктен — троих; в литературе зарегистрированы случаи, когда болело трое из четверых, четверо из шестерых.
Даже самые большие оптимисты не могли объяснить это случайностью. На заболевании лежала печать чего-то неотвратимого, как бы заранее предопределенного.
То, что родители больных чаще всего оказывались совершенно здоровыми, как будто бы не опровергало теории наследственности. Считалось, что отец и мать передают ребенку такие гены, которые в сочетании (именно в сочетании!) вызывают болезнь.
Но сказать, что заболевание неизлечимо, значит, сказать: врач, отступи! Что ты можешь сделать, если сама природа по злой и необъяснимой своей прихоти поставила на человеке клеймо обреченного?
От поисков лечения т профилактики гепато-лентикулярной дегенерации удерживало не только представление об ее исключительно наследственном характере. Болезнь, к счастью, была и остается очень редкой и, казалось, что это дает некоторое право на спокойствие.
Стоит ли ломиться в неприступную крепость, терять годы и силы, почти наверняка обрекать себя на поражения — и все это для того, чтобы облегчить участь нескольких десятков больных?
Нашелся человек, который сказал: стоит! Он потратил на изучение этой болезни не год, не два, даже не десять, а почти целую жизнь. И начал он свою огромную работу ради одной единственной больной, которую еще совсем молодым врачом увидел а клинике.
Это было тридцать пять лет назад, но действительный член Академии медицинских наук СССР профессор Николай Васильевич Коновалов до сих пор помнит ее имя — Ирина Пузырева. Ей было 49 лет, она заболела во время беременности. Чужие руки пеленали ребенка, подносили к ее груди: молодая мать не в состоянии сделать сама ни одного верного движения.
Николай Васильевич начал жадно искать то немногое, что было написано об этой болезни. Он в совершенстве знал немецкий, английский, французский и не нуждался в переводах. Но на всех языках ученые твердили одно и то же: болезнь неизлечима, она коренится во врожденной слабости мозга и печени, а это неизбежно приводит к тому, что в разные сроки жизни, а чаще всего в молодом возрасте ткань этих органов перерождается и больной погибает.
Читать дальше