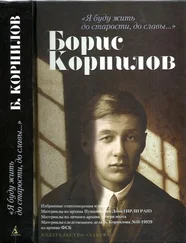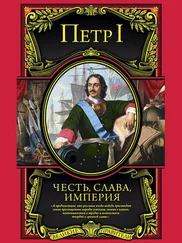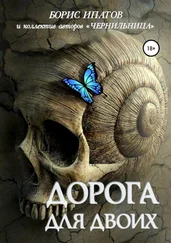Неумный и жестокий человек, опьянев от собственной власти, поднял дрын снова. И ударил бы, но его остановил чей-то голос:
— Утопнет скотина—отвечать будешь!
И перетрусил бритоголовый, обежал вокруг, готов целовать Бурушку в покрытые пеной бешенства и бессилия губы:
— Бурушка, вставай! Но-о, милый, но-о, родной! Бурушка встал, конечно, но потом еще несколько раз падал, и лежать в зыбкой, пахнущей гнилью трясине было ему приятно. Поднимаясь, успевал украдкой щипнуть клок травы и хоть чем-то скрасить сегодняшнее ужасное житье.
А когда кончились работы, Бурушка подождал, пока с него снимут хомут, и, боясь преследования, стремглав помчался к деревне. Если бы люди, от которых он убегал, что-нибудь смыслили в лошадях, они бы восхитились стройностью и легкостью, с какой летел, стелясь над землей, только что забитый и униженный, а сейчас вновь ощутивший первозданную радость воли и удали Бурушка! Но они не могли восхититься, они смогли только поднять панику:
— Удрал!.. А вдруг что не так?
— В погоню!
Шофер нажал на стартер, «газик» фыркнул и запылил вслед за Бурушкой.
Побег лошади представлялся им бедствием, но напрасно—Федя только слегка упрекнул бритоголового, сказав:
— Всякая лошадь дорогу домой знает. А Бурушка подавно. В другой раз подвязывайте повод, чтобы не болтался.
Бритоголовый, довольный, что так все здорово обошлось, соврал:
— Я подвязывал, да видно, неважнецки... Видно, отвязался он.
Бурушка стоял в стороне, задумчиво смотрел на фырчащую машину, на лысоголового обидчика, и не было в его глазах ни упрека, ни муки, а было лишь равнодушие, с каким воспринимал он неустроенность своей жизни: предстоящие радости ночного, когда Федя оседлает его и погонит со всем табуном к речке, так же мало волновали его, как и перенесенные днем страдания.
И наутро, когда позвали его на работу, погнали на тот же постылый луг, он шел по-прежнему безропотно, готовый, как и вчера, как и третьего дня, что есть сил тянуть лямку.
Бритоголовый говорил о Бурушке всяческие гадости и не захотел работать с ним, Бурушка попал в руки нового погонщика—паренька застенчивого и совсем неумелого. Напуганный рассказами бритоголового брехуна, паренек решил подкупить Бурушку: ни единого раза не ударил его, ни разу голоса не повысил, а за каждую ездку поощрял куском хлеба. Бритоголовый осудил:
— Есть такая поговорка: «Запряг — гони, распряг — корми».
Паренек, однако, продолжал стравливать Бурушке хлеб, несколько раз бегал на стан, где готовился обед, за новыми батонами и ржаными кусками, набивал ими карманы штанов и пазуху.
Бурушка скоро привык к тому, что как только он допрет копешку до того места, где ставится стог, то получит горбушку. А паренек ликовал:
— С самой норовистой лошадью надо уметь обращаться! Видите, как ходит! Таскает, будь здоров.
Бурушка, склонив голову, слушал бахвальство без осуждения. Нынче ему, конечно, крупно повезло: не бьют, не погоняют, хлебом кормят, грунт под ногами поплотнее и посуше вчерашнего, а копешки поменьше и полегче. Правда, коновод подвернулся еще дурее, чем вчера. Из-за его бестолковости веревка, которой цепляют вороха сена, запутывалась у лошади в ногах. Паренек растерянно охал, начинал зачем-то развязывать супонь и никак не мог сообразить, что нужно просто подать коня назад. Бурушке приходилось самому догадываться об этом, и он, потянув время, снисходительно переступал через веревку.
Вечером пришел бригадир, и выяснилось, что Бурушка под руководством бестолкового транжирщика хлеба вывез очень мало сена, даже на один трехтонный стог не хватало. Бритоголовый, который был у шефов за главного, сказал, что завтра он прихватит одного слесаря, родившегося в деревне и умеющего обращаться с лошадьми на «ты».
Так оно и произошло. Слесарь, который «родился в деревне» и которого все называли запросто Колюхой, сразу же по-хозяйски взнуздал Бурушку, потрепал по пропыленной гриве, обнял мускулистую упругую шею, не думая совсем, что тот может куснуть его или наступить копытом на ногу, — правда, что на «ты».
А когда на луг пришли—власть и сила были в каждом его оклике. У такого хозяина нельзя было симулировать усталость и ложиться в тину, нельзя было рассчитывать на поблажку. Колюха без роздыха работал сам и из Бурушки выжимал все, что можно, хотя и не бил его, не мучил, даже давал временами передохнуть, пощипать травы.
У Бурушки началась опять жизнь привычная, без впечатлений. Изо дня в день делал он бездумно одно и то же, напрягался, всхрапывая от усталости. Когда идти было совсем невмоготу, он просительно скашивал глаза на парня, и тот сразу - понимал, верил и говорил со чувственно:
Читать дальше