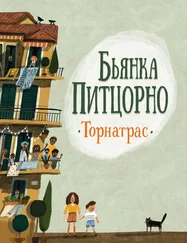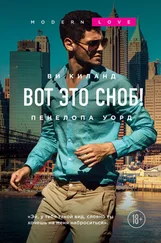Я была уверена, что точность научного языка придется мне по душе. Наконец-то винный мир предпринял попытку критически взглянуть на свои дурные привычки и спуститься на землю. Но, размышляя на обратном пути в Сан-Франциско о встречах с Энн и Александром, я засомневалась: действительно ли ситуация улучшилась? Возможно, «пиразин» — самое точное слово для описания характерного аромата совиньон-блан, однако оно совершенно не передает всей полноты ощущений, возникающих у человека, пьющего это вино. Согласно новым правилам оформления дегустационных заметок, то, что раньше было каберне-совиньон со сложным многоуровневым букетом, в котором сочетаются сладкий перец, черная смородина, свежевспаханная земля и черный перец, стало бы вином с нотками пиразина, тиолов, геосмина и ротундона. Точно? Да. Интригующе? Нет. Кроме того, мы не всегда знаем, каким образом эти ароматы создают тот или иной букет. Соедините в одном бокале пиразин, тиолы, геосмин и ротундон — и полученный результат даже отдаленно не будет напоминать Шато О-Брион. Справедливости ради, если смешать нарезанный сладкий перец с черной смородиной, черным перцем и горсткой земли, тоже не получишь такой букет. Зато система Энн, по крайней мере, не претендует на подобный уровень конкретики.
Во время слепых дегустаций с Морганом мне всегда нравились его сравнения, мгновенно создавшие целую историю. Это были целые картинки, а не просто метафоры, — невероятные, нереалистичные фантазии, которые при всей своей причудливости (и субъективности) вызывали гораздо более сильные эмоции, чем «ваниль» или «лактон». Сомелье не стали бы озвучивать подобные дегустационные заметки гостям в ресторане или на экзамене, однако именно такие ассоциации с винами у них рождались. Лучше всего это удавалось Моргану:
«Невероятный Халк выходит из ядерного реактора»: австралийский шираз.
«Танцовщик, артист балета»: неббиоло.
«Южная улица у Центрального парка», где расположена стоянка конных экипажей, отчего воздух насыщен стойким ароматом конского навоза: Бордо.
«Городская свалка»: не очень хорошее шардоне из региона с жарким климатом. (Морган прислал мне длинное электронное письмо на 400 слов с подробным объяснением этой ассоциации. Вдаваться в детали не буду, скажу лишь, что там говорилось что-то о «физиологически перезрелых фруктах».)
«Язык словно проткнули острой шпилькой, а все остальное накрыли кашемировым пледом — из-за сахара»: сухой немецкий рислинг.
«Адское лезвие — порезаться можно»: австрийский рислинг.
Больше всего мне запомнилась одна жутковатая ассоциация, когда какой-то сомелье объяснял, как он определяет пинотаж на слепых дегустациях: «Между собой — потому что на людях такого не скажешь — мы сравниваем его с „гаитянским ожерельем“. Это такой вид казни, когда ты берешь автомобильную шину, надеваешь ее на шею жертве, заполняешь бензином и поджигаешь».
Хорошо, что кто-то решил снизить градус поэтичности дегустационных заметок, прежде чем они окончательно оторвутся от действительности. Надо заметить, что мысль о существовании более объективного способа оценки ароматов вина странным образом помогла мне примириться с самыми причудливыми, фантазийными ассоциациями профессиональных энофилов. Мне показалось, что оптимальным решением было бы… сочетание обоих подходов. Хотелось понемногу того и другого. Мне нравилась аналитическая, объективная терминология, привязанная к химическому составу напитка в бокале. Она давала возможность быть честной, не позволяла критикам выдавать цветистые маркетинговые эпитеты за объективное описание, помогала установить обратную связь между вином и теми процессами и решениями, благодаря которым оно получилось таким, каким получилось. Такая терминология придавала более цельную форму воспоминаниям. Однажды вечером мы с Морганом вышли на улицу после грозы.
— Пахнет весной, — сказала я.
Он принюхался и помолчал.
— Пахнет петрикором, — наконец, ответил он.
Петрикор — это запах, который источает земля после дождя. Слово происходит от греческих petros , что означает «камень», и ichor — жидкость, текущая в жилах греческих богов. От такой специфичности сам момент — и запах — прочно засели в моем сознании.
В то же время не хотелось лишаться права на использование более изобретательных описаний. Если ограничиться только научным языком или даже терминологией Энн, то описания почти всех вин в дегустационных заметках будут звучать одинаково: красные фрукты, синие фрукты, черные фрукты, сухофрукты. Безумные выражения Моргана разжигали во мне аппетит к вину. И, хотя построенные на ассоциациях дегустационные заметки были менее точными, порой они бывали более меткими. Вкус и запах — субъективные ощущения, и метафоричность и поэтичность часто украшали мой личный опыт наслаждения вином. Шенен-блан часто издавал аромат запеченных яблок, медвяной росы, имбиря и влажной соломы. Но лично я всегда узнавала его по стойкой ассоциации: стоило мне его ощутить его аромат, как сразу представлялась промокшая овца, держащая ананас. Запах вспотевшего француза в аэропорту намекал на то, что передо мной, скорее всего, Бордо. Аромат дедушкиного одеколона — резкий, немного мятный — указывал мне на каберне-фран. Детские воспоминания — осень, мокрые листья, сырая земля — неизменно ассоциировались с пино-нуар.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
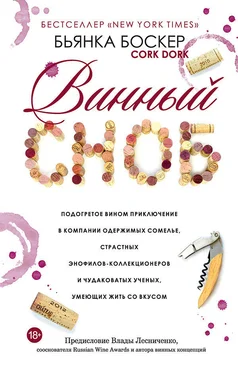

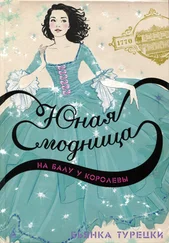
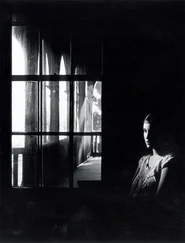


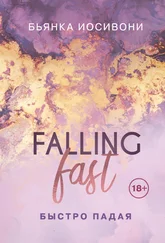
![Ви Киланд - Вот это сноб! [litres]](/books/413255/vi-kiland-vot-eto-snob-litres-thumb.webp)
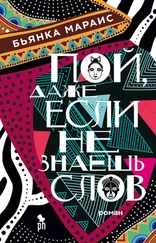
![Бьянка Скардони - Порочность [ЛП]](/books/435341/byanka-skardoni-porochnost-lp-thumb.webp)