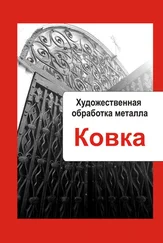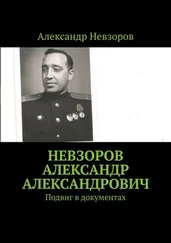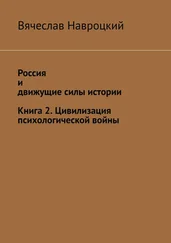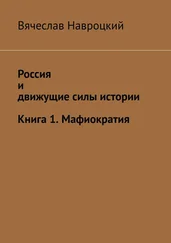Американцы, изучая себестоимость кузнечных изделий, установили, что один удар молотобойца оценивается в один доллар, а удар кузнеца – в десять долларов. И сразу возникает вопрос: почему молотобоец, работающий тяжелым молотом, получает всего один доллар за удар, а кузнец со своим маленьким ручником – десять долларов? Ответ такой: молотобоец только бьет молотом, а кузнец знает, куда и как надо ударить. Он мыслит даже в период ковки и определяет силу удара своего ручника и молота молотобойца в зависимости от образа готового изделия. Хороший кузнец не просто кует, а священнодействует. Недаром в старые времена, когда кузнец получал заказ на изготовление ответственных изделий, таких как меч, кинжал, щит, надкупольный крест или какой-нибудь ритуальный предмет, он постился, читал молитвы, а непосредственно перед ковкой тщательно мылся и одевался во все чистое.
В Средние века в Западной Европе ковка широко использовалась для изготовления самых значимых изделий: парадных ворот для храмов, замков или богатых особняков; выдающихся по красоте решеток для садов и парков, уникальных балконных решеток и лестничных перил, а также предметов интерьера.
Многие сильные мира сего – короли и правители, герцоги и бароны, высшее духовенство и аристократы – окружали свои дворцы, замки, соборы и особняки высокохудожественными шедеврами кузнечного искусства. Понимая красоту и значимость кованых изделий, они всячески поддерживали высококвалифицированных кузнецов и создавали им условия для работы.
Так, польский король Станислав I Лещинский (1677–1766), живший после изгнания во Франции, содержал при дворе собственного кузнеца Жана Ламура, а в Англии кузнец мог сидеть за столом с королем и королевой. Да и сами короли и правители не брезговали брать в руки кузнечный молот: французский король Карл IX (1550–1574) был талантливым мастером по ковке замков и ключей, Людовик XIII Бурбон (1601–1643) все свое свободное время посвящал художественной ковке, а Людовик XIV даже устроил себе кузницу в Версальском дворце.
Среди русских царей любителями ковки были Иван Грозный (1530–1584) и Петр I (1672–1725), который принимал участие в ковке якорей на Воронежской судоверфи.
Первый президент США Джордж Вашингтон (1732–1799) любил в свободное время ковать, а итальянскому диктатору Бенито Муссолини (1883–1945) нравилось не только ковать, но и позировать перед фотокамерами с молотом в руках.
Известно, что в некоторых странах Африки и Азии правителями выбирали только тех, кто хорошо знал кузнечное дело. В конце XVIII в. русский просветитель В. Певшин в своем «Словаре коммерческом» писал: «Если бы цена вещей определялась по их полезности, железо должно бы считаемо быть драгоценнейшим из всех металлов: нет художеств, ни ремесла, в котором не было бы оное необходимо, и надобно бы целые книги наполнить одним описанием таковых вещей».
Практически во всех государствах Европы и Азии есть народные сказания, эпосы, былины и мифы о героях-кузнецах: в Греции это бог-кузнец Гефест, в Риме – Вулкан, у германцев – Виланд, у финнов – Ильмаринен, у русских – Сварог, у бурят – герой Гэсер, у скандинавов – Мимир, у кельтов – бог-кузнец Гоибниу. А сколько великих художников, поэтов, песенников посвятили свои произведения кузнецам!
Кузнечное искусство и мастерство, имеющие древнейшие корни, и в настоящее время продолжают совершенствоваться и развиваться. Кузнечные праздники, фестивали и встречи проводятся во многих станах мира – в России, Украине, Белоруссии, США, Англии, Германии, Австрии, Скандинавских странах и Прибалтике.
В Советском Союзе возрождение кузнечного искусства началось после создания в 1975 г. в подмосковной Салтыковке Музея кузнечной науки и техники на базе дома и участка профессора Анатолия Ивановича Зимина – основоположника отечественного кузнечно-прессового машиностроения. Начало экспозиции положили работы кузнецов В. Басова и В. Кривошеина из Суздаля; К. Шацкого, И. Никитина из Москвы; Л. Быкова, А. Беланова, В. Маркова, В. Сахоневич из Санкт-Петербурга; Н. Чекмарева из Тольятти; В. Демина и О. Стасюка из Киева; Н. Марченко из Нижнего Новгорода; А. Романова и И. Монастырского из Ульяновска; В. Тумова из Асбеста; Н. Фирстова из Поленова Тульской области и др. Часть этих изделий представлены в данной книге.
На фото 1.4.1 показана экспозиция музея на лестничном марше, где видны многочисленные самовары XIX в., настенные и напольные светцы, стенды с конскими приборами и с элементами художественной ковки. На одном из окон музея стоит композиция «Цапля на болоте» (фото 1.4.2) выкованная кузнецом промышленной ковки Иваном Никитиным, который, посетив музей, подумал: «А я чем хуже?» – и через неделю принес нам в музей свой маленький шедевр, которым восхищаются не только кузнецы-художники, но и искусствоведы, и простые посетители.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу