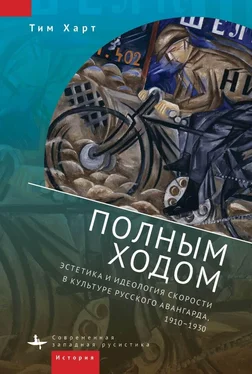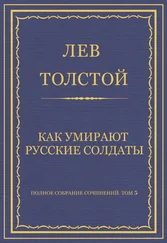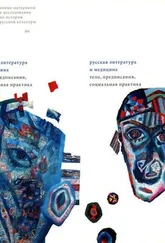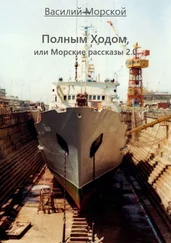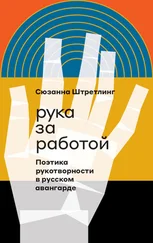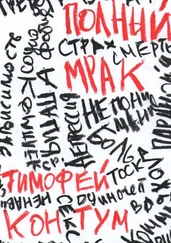Россия и скорость
В начале XX века Россия твердо придерживалась своего особого подхода к вопросам скорости, равно как и к общим тенденциям западноевропейского модернизма. Более того, культурная самобытность России была очевидна как в лингвистическом смысле, так и в художественном. В русском языке для обозначения скорости («speed») есть два термина: «скорость» и «быстрота». «Скорость», более технический из этих двух терминов, возможно, наиболее близок к «speed», поскольку характеризует темп движения, в то время как «быстрота» – наиболее употребимая в форме наречия «быстро» – ближе к «quickness». Однако можно утверждать, что «скорость» и «быстрота» не обладают тем широким охватом и не так часто встречаются в речи, как слово «speed» в английском или «vitesse» во французском. Поэтому в начале XX века русские художники все чаще использовали слово «динамизм», обозначающее энергичность действия; в философии это слово отсылало к представлению, что материальные или мыслительные феномены являются результатом действия разнообразных сил. Этот термин, передающий растущую скорость эпохи модернизма, был для русских наиболее подходящим эквивалентом «speed», «velocita» и «vitesse» – он стал обозначать неоспоримый аспект российского духа времени на рубеже веков.
Однако на протяжении большей части XIX века в России, в отличие от большинства стран Запада, едва ли наблюдался какой-либо урбанистический динамизм. Несколько изолированное от западноевропейских культурных центров и обладающее собственной интеллектуальной традицией, основанной на греческом православии (в отличие от латинско-католической традиции), российское общество, даже в Москве и Санкт-Петербурге, демонстрировало более неоднозначное отношение к скорости, чем это было принято на Западе. Хотя в плане развития промышленности и экономики Россия во второй половине XIX века находилась на подъеме, здесь имелись и сдерживающие, реакционные факторы [42] В 1890-е годы рост производства в Российской империи составлял внушительные 8 %. См. [Riasanovsky 2000: 426].
. Например, Россия довольно медленно принимала технологические и хронологические инновации, которые помогали упорядочить европейское общество эпохи модерна. Отказавшись привести свои часы в соответствие со временем по Гринвичу, системой, по которой большая часть Западной Европы (за вопиющим исключением Франции до 1911 года) координировала свои расписания поездов, царское правительство таким образом закрепило тот факт, что русские «не шли в ногу» с остальной Европой [43] В 1892 году Санкт-Петербург отставал от Гринвича на 2 часа, 1 минуту и 18,7 секунды. См. [Kern 2003: 13]. Лишь в 1912 году на всем континенте была принята единая система времени.
. И хотя большая часть Европейского континента жила по григорианскому календарю, введенному папой Григорием XIII в 1582 году, русские приняли эту систему взамен юлианского календаря лишь в 1918 году, после революции. Царская Россия часто сопротивлялась переменам и сохраняла как институциональную, так и политическую осторожность в отношении модернизации и скорости.
Однако это официальное упрямство не помешало русскому авангарду воспринять идеи и образы скорости, появившиеся в западном искусстве. Можно даже утверждать, что из-за вялой и запоздалой реакции российского общества на модернизацию русские художники создавали изображения скорости более смелые, более проникнутые иконоборческим пафосом, чем большинство их коллег – модернистов на Западе. Русские футуристы ухватились за современные технологии, которые, учитывая их малую распространенность в России второй половины XIX века, при своем появлении казались особенно современными, быстрыми и способными преобразовывать общество. Поэтому культ скорости, пропагандировавшийся итальянскими футуристами, приобрел в России большее влияние, чем в любом другом государстве Европы. Р. У Флинт в эссе о Маринетти утверждает: «Больше, чем кто-либо в промышленно развитых европейских странах, которые их разделяли, русские <���…> были открыты для итальянского энтузиазма по отношению к красоте механизмов и современной городской жизни» [44] Введение Р. У. Флинта к [Marinetti 1972: 27].
. Эта близость между русскими и итальянцами, возможно, связана с тем, что в то время экономика как России, так и Италии была преимущественно аграрной, что сделало скорость, присущую движению современного города, и модернизацию в целом еще более ярко выраженными и удобными для художественной интерпретации. Русские художники-авангардисты будут проявлять значительную осторожность в отношении технологий, при этом используя в своих работах православные образы и другие славянские неопримитивистские формы, чтобы достичь беспрецедентного синтеза старого и нового, медлительности и скорости, – но на темп эпохи они глядели с восхищением, что способствовало усвоению и развитию революционных новшеств.
Читать дальше