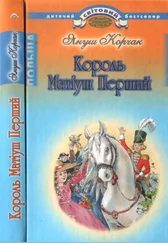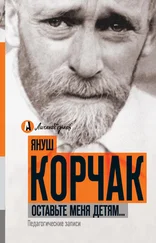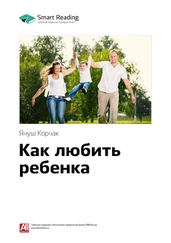Я вам скажу, если хотите.
Мать боялась, что прохожий может подумать, что кто-то бросил, потерял или положил что-то темное, или оставил на минутку в спешке, чтобы вернуться и снова взять под мышку и унести куда надо. Так могло быть. Людям сейчас трудно рассуждать разумно: они спешат, потому что благотворительная кухня выдает суп только до определенного часа, а в разных конторах нужно долго стоять в очереди.
Могло случиться именно это, так мог подумать прохожий. Да и он – он тоже мог в спешке не подумать, а проходя, бездумно, чтобы убедиться, что в бумаге нет ничего ценного, что может пригодиться, чтобы не наклоняться без нужды, мог этот бумажный сверток пнуть: твердый он или мягкий, может, там можно чем-нибудь поживиться.
Вот этого мать не хотела – поэтому оставила эту босую ножку, чтобы люди видели, что нет ни ботиночек, ни чулочков, что нечего взять.
Поэтому она так поступила со своим умершим ребенком, со своей крохоткой. Потому что больно, когда кто-то пинает то, что ты любишь. А люди сейчас и нетерпеливы, и рассеянны, и часто говорят совсем не то, что хотят сказать, и делают совсем не то, что хотят, а то, что просто подвернулось. Ведь даже сны – и те бывают бессмысленными, странными какими-то и перепутанными.
БЮРО СОВЕТОВ
[ апрель 1942 года ]
Пишет в своем дневнике Монюсь. Пишет так:
«Иногда я думаю и задаю себе вопрос, как так получилось, что у меня нет дежурства по поливу растений в горшках. Ведь у меня было такое дежурство, и я хорошо выполнял свои обязанности, но я не знаю, как потерял его».
Такой мелкий вопрос, такая маленькая несправедливость, может быть, всего лишь недоразумение.
Другой бы решил этот вопрос. Ходил бы туда и сюда, спрашивал одних и других, просил, скулил и поднял бы шум.
Но Монюсь Фрайбергер не любит надоедать. И целый месяц, то есть тридцать раз, он не мог делать то, что любит и умеет делать. А к тому же он сам не знает и терзается, и спрашивает себя самого:
– Это моя вина? Может, это моя вина? Почему так получилось?
И глядя каждый день в календарь, считает, сколько дней осталось до мая, и мечтает отгадать, вернут ли ему его дежурство.
Монюсь пишет в дневнике:
«Я задаю себе вопрос».
Ну да: он спрашивает себя, потому что кто захочет разговаривать с ним о такой мелкой и неважной вещи. А к воспитателям стыдится подойти, не хочет никому голову морочить, потому что знает, что воспитатели не всегда охотно отвечают на вопросы.
У воспитателей времени нет.
О-о-о, вот именно: у персонала нет времени на то, что не является проступком, потерей, нарушением правил, а всего лишь – тихое желание мальчика или девочки.
Я это сейчас пишу в среду. Я вернулся домой в пять и хочу пану Генеку дать статью в газету.
Я иду в свой изолятор, а там лежат Лоня, и Ханечка, и Фелюня. А на столе стоят три обеда.
Я вспомнил, как тихо и приятно дежурить возле клозета. На дежурстве – Леон. Я ему и говорю:
– Иди в сад, я тебя подменю.
Он обрадовался, сказал «Спасибо!» и побежал. А я взял доску подложить под тетрадь, стул и тетрадь, сижу пишу.
И думаю:
«Тут можно спокойно писать».
И вдруг, может, минут через десять, возвращается Леон. Спрашиваю, почему, а он ничего не отвечает.
Я подумал, что, может, пани Саба 200вмешалась и что-то ему сказала. Потому что сотрудники часто вмешиваются в то, чего не знают и не понимают. Им кажется, что они делают добро, а на самом деле только вносят путаницу и причиняют неприятности.
Но Леон говорит, что нет, не пани Саба.
– Может быть, ты в саду с кем-то поссорился?
– Нет.
– Тогда почему ты вернулся?
Тут Леон начинает плакать.
Он пошел было в сад, но вдруг ему стукнуло в голову, что он, может быть, плохо сделал, что согласился уйти, может, нужно было отказаться.
Стало быть, и тут, как у Монюся, горесть невеликая, но горесть в теплый и солнечный день.
Немного таких дней в году в польском климате.
Люди говорят:
– Хорошо вашим детям: у них всегда на лицах улыбка.
Это и правда, и неправда.
Даже до войны, много лет назад, я задал написать работу на тему:
«Десять моих горестей».
Были такие, которые написали мало, но были и такие, кто написал по двадцать и по пятьдесят горестей.
Были горести, о которых я и раньше знал, а именно:
«Первая моя горесть – это то, что у меня нет ни папы, ни мамы. Вторая – что мне плохо живется. Третья, что мне хотелось бы иметь братика или сестричку. Четвертая – это школа. Пятая – что моя кровать стоит тут, а за столом я сижу там. Кое-кто меня задирает. Кто-то из воспитателей ко мне придирается. Мне не дали пальто. Я плохо отдежурил. У меня отобрали то-то и то-то».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу