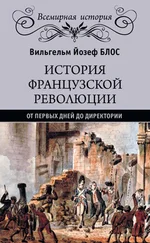Музеи изображали своих политических хозяев в роли хранителей мировой культуры, спасающих памятники, которые на их родине были заброшены и даже находились под угрозой разрушения. Музеи стали слугами империализма: по сей день отпечаток этого наследия лежит на крупнейших музеях Запада.
Самыми разоблачительными и лучше всего сохранившимися образцами этой империализации музея служат египетские залы в Лувре, относящиеся к периоду реставрации Бурбонов: Лувр к этому времени, что неудивительно, вновь сменил имя и стал называться Музеем Карла X. Цикл стенописей в египетских залах, задуманный египтологом Жаном-Франсуа Шампольоном и реализованный под его непосредственным наблюдением, прославляет французское культурное превосходство. Он связывает новую династию Бурбонов с четырьмя тысячелетиями египетской истории, тем самым утверждая идею непрерывности и стабильности и в то же время оправдывая французские колониальные завоевания и мысль о превосходстве белой расы. Заметим, что в рамках этого проекта, как и в случае деноновского Музея Наполеона, благополучно сосуществовали совершенно разные политические и научные задачи.
Британский музей в первой половине XIX века не имел столь откровенно пропагандистского характера, как Лувр, – возможно, потому, что британцы были в это время куда более уверены в своих империалистических амбициях. Они не нуждались в громогласных и хвастливых заявлениях, к которым прибегали французы, все еще пребывавшие в неуверенности относительно собственной национальной идентичности и политической стабильности после потрясений революции и наполеоновских войн.
Истинное дитя своего времени, британский куратор XIX века привнес в свою профессию последовательно дарвинистский подход. Он был скорее систематиком, чем историком искусства, и его мышление определялось идеей эволюционной художественной цепи. Искусство понималось им как магистраль, ведущая к вершине – греческой классике, а музей – как собрание «образцов», иллюстрирующих эту родословную. Официальный путеводитель Британского музея, изданный в 1875 году, использует термин «образцы» как для естественнонаучных объектов, так и для созданий человеческих рук.
Эстетическая оценка при этом существенного значения не имела: произведения искусства не рассматривались с точки зрения своих собственных качеств, а были интересны лишь степенью своего отклонения от идеала греческой классики, воплощенного в мраморах Элгина.
Сделанные в XIX веке фотографии залов Британского музея демонстрируют викторианскую склонность к загроможденным и темным интерьерам. Даже снятые в 1870-х годах греко-римские залы производят впечатление не столько упорядоченной музейной экспозиции, сколько кладовых, забитых всевозможным добром [21] Jenkins, Ian . Archaeologists and Aesthetes in the Sculpture Galleries of the British Museum 1800–1939. London: British Museum Press, 1992. P. 132–133.
. Никто, кажется, даже не пытался выступить посредником в знакомстве посетителей с произведениями искусства. Предполагалось, что те, кто пришел в музей, знают, что искать: куратор мыслил зрителя по своему образу и подобию. Если раньше отбор достойных осуществлялся посредством дворцового и аристократического этикета, то теперь ему на смену пришло знание.
Музеи XIX века отмечены навязчивой кураторской фиксацией на хронологии, которая берет верх над всеми прочими способами упорядочения материала. Стремление к полноте экспозиции было настолько властным, что побуждало заполнять лакуны коллекций гипсовыми слепками, составлявшими неотъемлемую часть большинства музейных собраний той эпохи. Их постепенно исключали из экспозиции, так что к 1920-м годам они в основном исчезли. Этикетаж был в лучшем случае небрежным, а чаще вообще отсутствовал.
С течением времени выставочные залы Британского музея все больше заполнялись экспонатами. К 1857 году проблема стала настолько острой, что недавно приобретенные части мавзолея в Галикарнасе (Малая Азия) хранились во временных деревянных строениях (вскоре замененных конструкцией вроде оранжереи) в колоннаде Грейт-Рассел-стрит. В 1860 году газета Evening Standard иронически писала, что «если бы Постановление о перенаселенных меблированных комнатах распространялось на неодушевленные объекты <���…> попечительский совет Британского музея попал бы под наблюдение полиции. Музей продолжают осаждать новые жильцы, коим он может предложить лишь постель из соломы под временным навесом» [22] Caygill, Marjorie . The Story of the British Museum. London: British Museum Publications, 1981. P. 56.
.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу


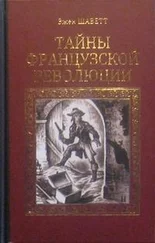
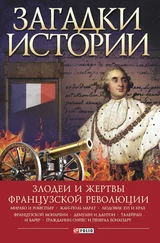

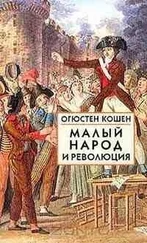

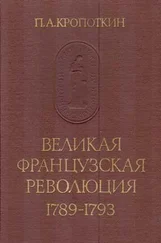
![Жорж Вигарелло - История тела Том 2 [От Великой французской революции до Первой мировой войны]](/books/412945/zhorzh-vigarello-istoriya-tela-tom-2-ot-velikoj-fran-thumb.webp)
![Мишель Перро - История частной жизни Том 4 [От Великой французской революции до I Мировой войны]](/books/413881/mishel-perro-istoriya-chastnoj-zhizni-tom-4-ot-velik-thumb.webp)
![Вильгельм Йозеф Блос - История французской революции. От первых дней до Директории [litres]](/books/429991/vilgelm-jozef-blos-istoriya-francuzskoj-revolyucii-thumb.webp)
![Луи-Адольф Тьер - История Французской революции. Том 3 [litres]](/books/430667/lui-thumb.webp)