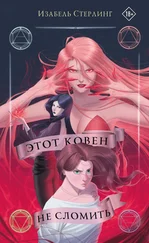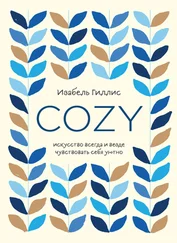В интервью немецкому общественно-политическому журналу Der Spiegel Гурски указал на художественно-исторические отсылки своего проекта, нечаянно вызвав тем самым своего рода цепную реакцию интерпретаций [11] См.: Fotos dürfen lügen // Der Spiegel. 4/2007. S. 152–154.
. Во время посещения выставки Караваджо, – мимоходом обронил художник, – ему показалось, что в недавних фотографиях из серии «Пит-стоп» он бессознательно использовал «похожее освещение». Это сравнение, в котором смешались гипертрофированное самолюбие Гурски и художественно-историческое клише, немедленно стало стандартной фразой в статьях о нем. Все как по команде присоединились к восторженному хору: «А ведь свет у него – прямо как у Караваджо!» [12] См.: Mazzoni I. Das Totale Bild // FAZ . 21. Februar 2007; Maak N. In den Labyrinthen des Sehens. Vor der großen Münchner Ausstellung: Ein Gang in Andreas Gurskys Atelier und ein erster Blick aufs neue Werk // FAZ . 12. Februar 2007.
Складывается впечатление, что само упоминание этого имени сегодня сродни признанию историей искусства.
Таким образом, даже в мире искусства, который все более послушен экономическим императивам и все чаще признает роль арбитра в художественных вопросах за глобальным арт-рынком, история искусства по-прежнему действует как страховка. Тот факт, что вскользь упомянутая Гурски художественно-историческая отсылка играет на руку его искусству, очень важен и на символическом уровне. Ведь если рыночный успех может обусловить культурную значимость сейчас, то в будущем она становится зависимой от символической ценности, за которую, несомненно, все еще отвечают история искусства и критика.
В настоящей книге приводится множество примеров, подкрепляющих посылку, согласно которой со времен последнего арт-бума наблюдается активный рост определяющей роли рынка и его участников, все чаще получающих право голоса в вопросах установления художественной ценности. Действительно, многое приводит к мысли, что решение о художественной значимости произведения все более зависит именно от его рыночной стоимости. Но чтобы приобрести бесспорную легитимность, рыночная стоимость все еще нуждается в дополнении «символической ценностью». Без символической ценности нет и рыночной стоимости – это вторая идея книги, также основанная на эмпирических наблюдениях (оценке отзывов в прессе) и историческом (ситуационном) анализе. Если верно, что наше общество переходит с 1970-х годов от индустриального капитализма к «когнитивному», по определению Антонио Негри, то есть к такому капитализму, который характеризуется особой ценностью знания и информации, то в подобных условиях (а в мире искусства они действовали всегда) особую важность приобретает символическое значение, присваиваемое произведению искусства, его символическая ценность . Мир искусства по определению является обществом знания, сколько бы ни находился он под властью чар коммерческого успеха. Этот мир представляет собой социальный универсум, заинтересованный прежде всего в знании и символическом производстве (то есть, в производстве визуальных и языковых знаков).
Социолог Пьер Бурдьё использует понятие «символический капитал» для описания ценности, которую невозможно измерить при помощи экономических показателей. Среди прочих он приводит пример участка земли, чья символическая ценность превосходит его экономически обоснованное качество [13] Bourdieu P. Structures, Habitus, Power: Basis for a Theory of Symbolic Power // Outline of a Theory of Practice. New York; Cambridge: Cambridge University Press, 1977. P. 182.
. Наперекор экономизму, признающему лишь интересы капитала, Бурдьё выдвигает на первый план практики, которые ускользают от логики исчислимой выгоды и в то же время развивают свою собственную экономику. По аналогии с «символическим капиталом», то есть, в его понимании, с накоплением «престижа» и «влияния», Бурдьё рассматривает символическую ценность как выражение особенности, которую трудно охарактеризовать или измерить численно.
При изучении взаимоотношений между искусством и рынком понятие символической ценности особенно уместно, поскольку оно объединяет два понятия: «символ» относится к истории культуры, а «ценность» – к политэкономии. Символ – это избыток значения, которое оказывается, таким образом, внеположно самому себе. Но и ценность, или стоимость, вещи тоже не содержится в ней самой. По Марксу, стоимость появляется в общественном отношении одного товара к другому [14] Маркс К. Капитал. Кн. 1. Гл. I. 3. Форма стоимости… // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. В 50 т. 2-е изд. Т. 23. М.: Гос. изд-во полит. лит., 1960. С. 56.
. Чтобы объяснить тот факт, что стоимость объекта есть нечто совершенно отдельное от его физической оболочки, Маркс приводит пример куска холста, стоимость которого определяется стоимостью другого товара (в данном случае – сюртука) как его эквивалента [15] Там же. С. 61.
. Стоимость холста всегда рассчитывается исходя из чего-то другого – например, исходя из сюртука, в котором она находит свое выражение.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
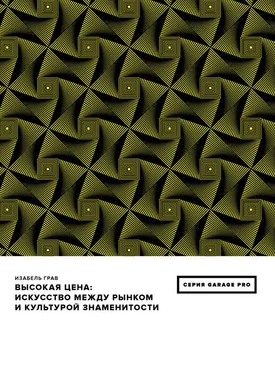
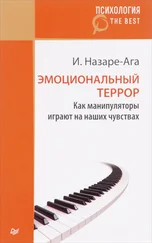
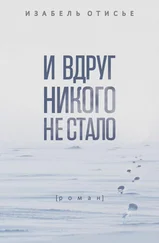
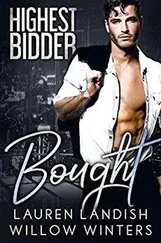

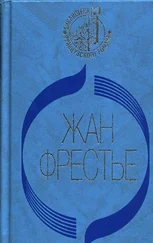

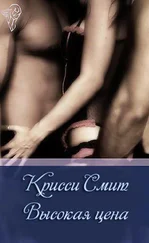


![Изабель Гиллис - Cozy. Искусство всегда и везде чувствовать себя уютно [litres]](/books/406910/izabel-gillis-cozy-iskusstvo-vsegda-i-vezde-chuvs-thumb.webp)