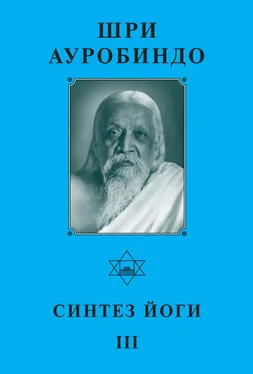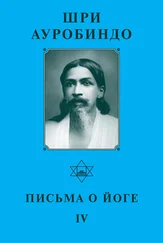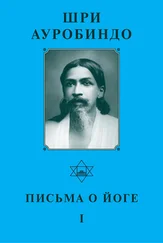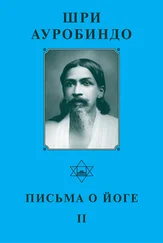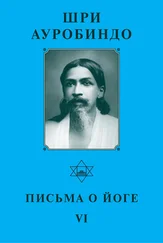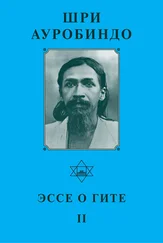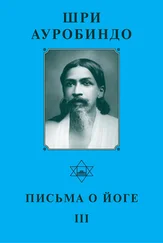Обычно гуны пытаются превзойти, отказываясь от деятельности низшей природы. Этот отказ приводит к тому, что в человеке возникает стремление к бездействию. Саттва, стремясь обрести все большую силу, пытается избавиться от раджаса и призывает на помощь тамасический принцип неподвижности; по этой причине определенные типы высоко саттвичных людей живут преимущественно в своем внутреннем существе и почти совсем не участвуют в активной внешней жизни или же, участвуя, обнаруживают в ней свою некомпетентность и неэффективность. Искатель освобождения идет в этом направлении дальше и пытается с помощью погружения своего природного существа в состояние просветленного тамаса – тамаса, который благодаря этому спасительному просветлению становится скорее принципом покоя, чем принципом неспособности, – дать возможность саттвической гуне раствориться в свете духа. Тело, активная витальная душа желаний и эго, а также внешний ум приводятся в состояние покоя и неподвижности, одновременно саттвическая природа (с помощью медитации, благодаря всепоглощающему поклонению и стремлению, обращенному внутрь – к Всевышнему) пытается слиться с духом. Этого, может быть, и достаточно для достижения квиетического освобождения, но освобождение, предполагающее интегральное совершенство, требует большего. Квиетическое освобождение основано на бездействии и сохраняется только, пока мы пребываем в покое и бездействуем, поэтому оно не может быть самосущим и абсолютным; как только душа начинает действовать, она обнаруживает, что деятельность природы остается, как и прежде, несовершенной. Это освобождение души от природы, достигаемое через бездействие, а не освобождение души в природе, совершенное и ни от чего не зависящее, существующее как в действии, так и в бездействии. Тогда возникает вопрос, достижимо ли подобное совершенство и освобождение и что может быть условием такого рода совершенной свободы?
Обычно считается, что это недостижимо, так как любое действие принадлежит сфере низших гун и поэтому всегда несовершенно, sadoṣam , обусловлено движением, противоречивостью, недостаточной сбалансированностью, изменчивой борьбой гун; когда же эти неравные по силе влияния гуны приходят в совершенное равновесие, вся деятельность Природы прекращается и умиротворенная душа обретает покой. Исходя из этой концепции, можно сказать, что божественное Существо может либо пребывать в покое, либо действовать в Природе, используя ее инструменты, но в этом случае ему приходится одевать на себя ее покровы, имеющие видимость борьбы и несовершенства. Это может быть истинным применительно к обычной деятельности – которая является делегированной деятельностью Божественного в человеческом духе – с нынешними отношениями души и природы в воплощенном несовершенном ментальном существе, но это не истинно по отношению к божественной природе, которая является природой совершенства. Борьба гун это лишь отражение на уровне несовершенства низшей природы [того, что принадлежит высшей природе]; эти три гуны символизируют три основополагающие силы Божественного, которые не просто существуют, пребывая в совершенном равновесии и покое, но и, объединяясь в совершенном согласии, способны божественным образом действовать. Тамас на уровне духовного бытия становится божественным покоем, который является не инерцией и неспособностью к действию, а совершенной силой, шакти ( śakti ), хранящей в себе весь свой потенциал и способной контролировать и подчинять закону покоя даже самую интенсивную и грандиозную по своим масштабам деятельность. Раджас становится чистой Волей духа, которая порождает и сама осуществляет все действия, Волей, которая не является желанием, усилием, лихорадочной страстью, а является той же самой совершенной силой бытия, шакти , способной к бесконечной, непрерывной и блаженной деятельности. Саттва перестает быть ослабленным ментальным светом, пракашей ( prakāśa ), и превращается в самосущий свет божественного бытия, джьёти ( jyotiḥ ), – средоточие совершенной силы бытия, – озаряющий божественную умиротворенность и божественную волю к действию, слитые в одно целое. Обычное освобождение позволяет обрести божественный покой в неподвижном божественном свете, в то время как интегральное совершенство предполагает достижение этого более великого тройственного единства.
С обретением этого освобождения природы мы также избавляемся от духовного ощущения дуализма Природы. На уровне низшей природы двойственность является неизбежным результатом воздействия гун на душу, замкнутую в пределах ограничений саттвического, раджасического и тамасического эго. Источником этой двойственности является неведение, которое не способно постичь духовную истину вещей и сосредоточивается на несовершенных внешних формах; оно взаимодействует с ними не с позиции знания их внутренней истины, а с позиции борьбы и усилий, направленных на сохранение шаткого равновесия между влечением и отвращением, способностью и неспособностью, симпатией и антипатией, наслаждением и страданием, радостью и печалью, принятием и непринятием; вся жизнь представляется нам тесным переплетением приятного и неприятного, красивого и уродливого, истины и лжи, счастья и несчастья, успеха и неудачи, добра и зла – запутанной двойственной сетью Природы. Привязанность к своим симпатиям и антипатиям удерживает душу в этой сети добра и зла, радостей и печалей. Искатель освобождения избавляется от привязанности, отбрасывает от своей души двойственности, но поскольку двойственности, кажется, составляют саму основу действия, саму субстанцию и структуру жизни, создается впечатление, что этого освобождения легче всего достичь путем отстранения от жизни: либо физического, насколько это возможно, пока человек находится в теле, либо внутреннего – с помощью внутреннего уединения, отказа санкционировать всю деятельность Природы или освобождающего отвержения этой деятельности, вайрагьи ( vairāgya ). При этом происходит отделение души от Природы. Затем, невозмутимо пребывая над ней, удасина ( udāsīna ), душа наблюдает за борьбой гун в природном существе и, как бесстрастный свидетель, взирает на наслаждение и боль ума и тела. Или же ей удается распространить свое бесстрастие даже на внешний ум, и тогда она с невозмутимым покоем и невозмутимым блаженством стороннего наблюдателя созерцает мировые события, в которых она уже не принимает никакого активного внутреннего участия. Завершением этого процесса становится отказ от рождения и уход в безмолвное «я», мокша ( mokṣa ).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу