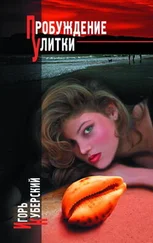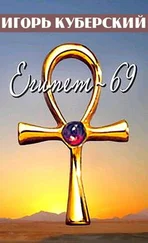Волоски были светлыми, но без позолоты. К устью они утоньшались, теряли густоту и равномерность, и Кашин предложил их вовсе выбрить.
– А не боишься? – сказала она с тем же выражением смущенного удовольствия на лице, которое, однако, все время разнилось, в зависимости от того, какой точки ее лона он касался.
– Чего-чего? – не понял он.
– Уколоться... колко будет.
– Я снова побрею.
– Часто же тебе придется приезжать.
– К тому и идет.
– Не знаю, не знаю...
Договорились, что он сделает это в следующий раз.
На пятый день его слегка пошатывало, но надо было уезжать. Новые дела подвалили – конференция у Иветты, а у него – выставка. Звонил, все приняли, надо было приехать, повесить, а то засунут куда-нибудь в темный угол, и тогда все коту под хвост.
Шел дождь – первый после череды мягких теплых солнечных дней, когда говорили, что в Подмосковье снова зацвела сирень. Иветта спешила на вызов и только выбежала вслед за ним из-под козырька метро, чтобы еще раз поцеловать у автобуса в аэропорт.
– Все, до свидания! – сказала она. – Ухожу! А то страшно не люблю проводы, прощания, всякую грусть. До свидания... Хочу увидеть Настю, – и пошла, сразу став строгой, недоступной.
У него в городе было светло и сухо – оранжево-карминный с фиолетовой дымкой закат над равниной, оглашаемой рокотом реактивных самолетов. Рессоры «Икаруса», подхватив Кашина у аэропорта, так же плавно и ровно несли в город. Целую неделю ему тут и там виделась Иветта – казалось, весь женский род разобрал себе ее руки и волосы, нос, улыбку и глаза, походку или манеру поджимать уголки губ и поднимать бровь. Он написал ей об этом наваждении, и она ответила в том смысле, что только радуется такому его любвеобилию.
Его картину в выставочном зале Союза художников повесили перед окнами, так что искусственный свет, убивающий теплые тона, не очень ей вредил. По странному наитию он не сказал Иветте о выставке – с одной стороны не знал, как примет публика, с другой... С другой – он не был уверен, что картина ей понравится, что-то все же он изменил в ней. В общем, оберегал свое иллюзорное детище от оригинала. И это несмотря на безоглядность любви. Нет, не такой уж она, любовь, была безоглядной. Творчество все же оставалось само по себе и жило своими шкурными интересами. Потому он и художник, оправдывал себя Кашин, считая, что имеет право на такой водораздел...
Несколько синих с белым транспарантов по поводу осенней выставки высели над самим Невским, на открытие набежало много народу, впрочем, половина своих – художников. Ревниво паслись у собственных работ, бросаясь навстречу каждой реплике зрителя. Друг друга, как принято, не признавали. Впрочем, в пределах клана можно было рассчитывать на кислое рукопожатие. Когда-то это травмировало Кашина, теперь он привык, да и сам едва ли не стал таким. Хотя считал, что умеет видеть чужие работы и хвалить их. Но, по правде сказать, ему мало что нравилось у коллег – так, отрывки, фрагменты. Из реалистов ни у кого не было заслуживающей внимания концепции, а андеграунд, всякий там доморощенный и допотопный авангардизм он не признавал.
В первые дни ему казалось, что его Иветта, точнее «Утро в саду» лучше всех, но ажиотажа не было. А вот напиши он, как Курбе, одно лишь лоно своей возлюбленной, и имел бы скандальный успех. Но даже в вольной Франции это лоно под идиотским названием «Происхождение мира» осмелились выставить лишь спустя более чем сто лет. Порножурналы – пожалуйста, а высокое искусство – нет. Видимо, есть в нем какая-то особая правда, оскорбительная для обывателя. В этом смысле Кулик прав – обыватель клюет только на иллюзии. Здесь же он узнал, что через полтора месяца в Москве открывается юбилейная выставка художников России, но там, конечно, более жесткий отбор. Впрочем...
А почему бы и нет, подумал Кашин. И это стало его идеей фикс. Он ведет Иветту на юбилейную выставку, и вдруг она видит свой портрет... Он ее возвеличил, он ее увековечил. Потом они покупают шампанское и подают заявление в ЗАГС. Если она захочет, он будет жить в Москве, он согласен.
Через три дня в газете появилась первые заметки о выставке, еще через день незнакомый автор накатал целый подвал на ту же тему. О Кашине и его картине ни слова. Это неприятно уязвило – как можно не замечать очевидное. Он мастер, черт возьми, мастер психологического письма... Надо быть слепым, чтобы не увидеть... Потом успокоился. Да пошли они, конъюнктурщики! Хвалят тех, кого нужно, пишут то, что угодно. У него есть работа, есть любовь, что еще надо. В этой зависимости от общественного мнение было что-то условное, смешное. «Как мелки с жизнью наши споры, как крупно то, что против нас». Странно, что с годами он стал как будто уязвимей. Должно бы наоборот. Когда ходил в молодых, отверженных, было проще. Был у них свой круг, своя шкала ценностей. А остального просто не существовало. И не приходилось выискивать о себе в газете полторы строчки. Что-то он все-таки утратил... Весь мир превратился для него в одну нескончаемую картину, невозможность завершить которую держала его в постоянном угнетающем возбуждении. И вдруг показалось, что все, что он сделал – около полусотни крупных работ – что все они поразительно неподвижны, темны, маловыразительны. Непонятно, как можно было написать такое дерьмо. Свалить бы их в кучу и запалить костер. Но ведь не запалит, будет ненавидеть, а не запалит... Что же делать с этим паноптикумом? Снял все, что висело, красовалось, распихал по углам, развернул к стенам. Мастерская сразу стада голой, уродливой, необжитой – можно начинать сначала. Но работать не хотелось. Только Иветтин портрет, тот заготовочный, южный, светил в вечернем сумраке телесной белизной, и казалось, что ему холодно среди этих обветшалых стен.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу