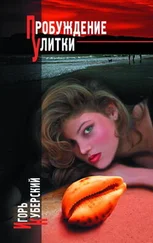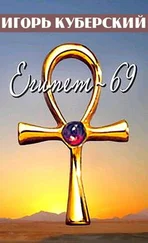Солнце стояла над Кара-Дагом, и была видна вся его неправдоподобная дымно-синяя громада. Строгость силуэта нарушал лишь Чертов палец, фаллически восставший в золотящийся небосвод.
После проводов Люды с сыном Борей из старых жильцов остались лишь они одни. Люда с Борей вышли на нос теплохода, Кашин и Настя с пирса улыбались им, и Люда, с пристальной нежностью посмотрев на Кашина, загадочно сказала:
– Дима, а все-таки жаль...
Когда возвращались, Настя снова пролила слезу. Рядом с нею бежал Чопик. По его виду нельзя было сказать, что он расстроен расставанием с Борей, который с ним возился больше других, и все же в его равнодушной побежке чувствовалась нарочитость, – видно, он привык скрывать свои чувства.
Перед отъездом в последний раз поднялись на Тепсень, и Чопик потрусил по знакомой дороге.
В примеченном месте Кашин повернул влево, по траве, но Чопик заупрямился и стал. Кашин подергал поводок – Чопик, глядя в сторону, выражал вежливое, но твердое намерение остаться на дороге. Видимо, он боялся колючек. Кашин передал поводок Насте и пошел один. Вот она, знакомая ложбинка. Он постоял над ней, опустился на колени и стал шарить в траве. В ту последнюю ночь они все же потеряли одну из заколок, и Иветта сказала:
– Ну вот, теперь одним поклонником будет меньше.
Он загадал, что если сейчас найдет, то Иветта будет с ним. Но заколка так и не нашлась, и он поспешно отказался от загадывания. Показалась Настя:
– Папа, что ты там делаешь? Чопик убежал!
Чопик не убежал – он просто самостоятельно отправился домой. Но это было на него не похоже.
Поезд уходил из Феодосии ночью, и они взяли билет на последний рейс катера. С утра на море было волнение, волны хлестали до самой бетонной стенки, прогнав всех с пляжа. Надежда, что к вечеру оно утихнет, не оправдалась – волны катились в темноте, выплескивая на подсвеченный берег желто-белесую крутящуюся кипень, и Кашин с тревогой думал о том, как Настя выдержит такой переезд.
Катер качало у пирса, вздрагивавшего от ударов волн. Пассажиров было мало.
– Ой, папа, – сказала Настя, когда палуба ушла из-под ног, – надолго меня не хватит.
– Ничего, думаю, в море будет меньше качать.
Кашин выбрал место у открытого борта, чтобы легче дышалось. Внизу, приподымая катер, катились к берегу водные холмы. Судно легко развернулось, попав на минуту в тошнотворную боковую качку, и тут же, справляясь с ней, устремилось во тьму.
Жидкие огни набережной стали удаляться, и уже не верилось в то, что там было, будто произошедшее Кашин увозил с собой. В полупустом салоне тускло светил дежурный плафон. С левого обращенного к берегу борта, где они сидели, почти не поддувало. От корпуса судна шла теплая дрожь. Настя легла, положив голову Кашину на колено, и он накрыл ее плащом.
Катер взлетал с волны на волну – они проносились внизу с плещущим шипением, как призраки. Черное огромное небо, казалось, тоже было взбаламучено – из его качающей бездны под козырек потолка заглядывали незнакомые звезды. Редкие огни определяли берег, они стояли то высоко, то низко – мир представлялся совсем иным, чем прежде, и не было в нем ничего, что Кашин умел и знал.
Далеко позади вспыхнул яркий свет, будто взорвалась звезда, и в черноту вытянулся голубой луч. То сжимаясь, то растягиваясь, он бродил по ту сторону Коктебеля, как раз в тех местах, где Кашин занимался любовью с Иветтой, потом вздрогнул, будто догадавшись о чем-то, развернулся, стремительно заскользил вдогонку по акульим плавникам волн и ослепил. На миг Кашин увидел собственное суденышко – белое от света, застывшее на месте в качании тьмы – и испытал чувство полной беспомощности, когда, скажем, только и остается, что бросить весла и покориться воле стихии.
Но еще более странным было неуклонное возвращение к покою, свету и надежности – когда впереди мокрой россыпью драгоценных камней засияла Феодосия. Ее волшебная шкатулка раскрывалась все шире, отражаясь в черном зеркальном овале бухты. И это тоже осталось загадкой – неподвижно-смоляная гладь воды, как будто огромное существо моря было столь безграничным, что могло одновременно выразить страсть и покой.
Вернувшись, Кашин принялся за работу. Настя пошла в школу. До открытия осенней выставки оставалось полтора месяца, и он спешил. Наталья Борисовна, его матушка, одобрила замысел – показать портрет и натюрморт с каперсами, согласно кивая ему, когда он говорил об энергетике картин, которая в каждом веке, нет, даже поколении, иная, пусть даже исходит от тех же самых предметов. Нельзя, скажем, написать букет сирени, как вчера, не потому, что это уже было, а потому, что сегодня у времени другое качество, оно само исподволь поправит кисть живописца. Правда в искусстве всегда нова и туго свернута, как лист в почке.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу