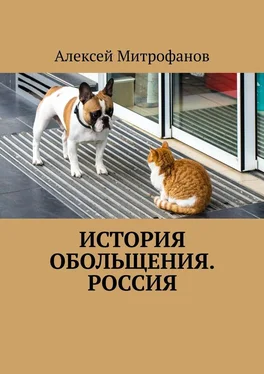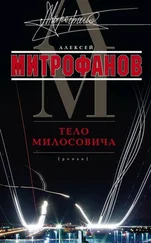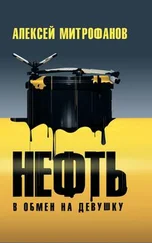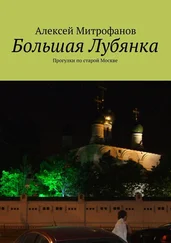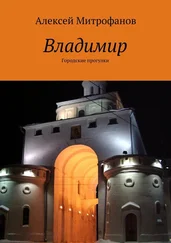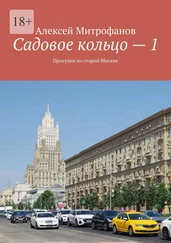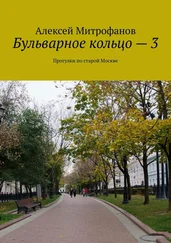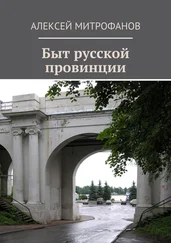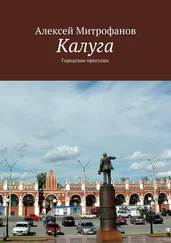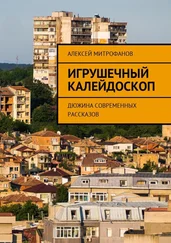И в обморок. Ее в охапку
Схватив – с добычей дорогой,
Забыв расчеты, саблю, шапку,
Улан отправился домой.
Поутру вестию забавной
Смущен был город благонравный.
Вот это был мужчина, ничего не скажешь! Можно представить себе, как тамбовские кумушки перемывали кости казначейше и как они же дико ей завидовали!
* * *
Продолжим осмотр провинции. Еще одно событие произошло в городе Ярославле. На сей раз архитектурное, однако же, имеющее самое прямое отношение к теме нашего повествования. На ярославской набережной появилась Волжская беседка, моментально ставшая и символом города, и символом романтических отношений. Правда, в нынешнем, каменном виде она появилась лишь в сороковые годы девятнадцатого века.
Это – одна из немногих беседок, о которой написано целое стихотворение. Автор его – поэт Иван Смирнов.
Старой липы тяжелые ветки
Наклонились к земле в полусне.
А девчонка под липой в беседке
Не смолкая, поет о весне…
Рукавички веселой расцветки,
Шарф, как два распростертых крыла,
Скольким ты, дорогая беседка,
Объясниться в любви помогла!
Конечно же, стихотворение немножечко наивно. Но в правдивости ему не отказать: в беседке не только принято объясняться в любви. Сюда, к тому же, по традиции, наведываются молодожены – благо ЗАГС находится неподалеку, на той самой романтичной волжской набережной.
Кстати, внешность ярославских девушек издавна считалась образцовой на Руси. Когда атаман Платов вывез из далекой Англии девицу-компаньонку, некую Элизабет Денис Давыдов задал Платову вопрос – а для чего она нужна? Ведь с англичанкой даже не поговоришь – язык другой. На что атаман отвечал: «Я скажу тебе, братец, это совсем не для физики, а больше для морали. Она добрейшая душа и девка благонравная; а к тому же такая белая и дородная, что ни дать ни взять ярославская баба».
Лучшего комплимента и представить себе невозможно.
* * *
В те времена в России начали формироваться так называемые «ярмарки невест». Главная располагалась в Москве. Нет, это не было каким-то специально отведенным местом, типа ярмарки коров или грибного базара. Ярмарка любви была рассредоточена по всему городу.
Дворяне знакомились на балах и в церквах. На балах, разумеется, основным инструментом был танец. На них заранее записывались в специальные блокноты. У девиц красивых и богатых в тех блокнотах было все заполнено до конца вечера. У страшненьких и бедных, разумеется, страницы были девственно чисты.
Среди храмов славилось «Малое Вознесение» на Большой Никитской улице. Попросить передать свечку, встретиться глазами, произнести пару-тройку ни к чему не обязывающих даже не комплиментов, а так, одобрительных слов. А там, глядишь, и приглашение на ужин, и под образа.
Для молодых людей попроще существовали многочисленные гулянья – на Тверском бульваре, у Новинского монастыря, у Новодевичьего. Открытый диалог вести было запрещено, поэтому существовали многочисленные языки веера, языки зонтика, языки цветов и прочие более или менее эффективные системы семафоров.
Великий русский соблазнитель Пушкин
Бесспорным гуру соблазнения был для своей эпохи Александр Сергеевич Пушкин. Косвенное подтверждение этому – так называемый «Дон-Жуанский список Пушкина». Больше никто из современников поэта подобных списков не имел. Правда, Александр Сергеевич его сам и составил – будучи в 1829 году в гостях у сестер Ушаковых, на Пресне. Но у нас нет никаких оснований ставить его под сомнения. Наоборот, поэт скорее преуменьшил свои подвиги и заодно преувеличил свою нравственность.
«Список» представлял из себя две колонки с женскими именами, всего 37 штук. За ними красовался автопортрет Пушкина в монашьей одежде и искушаемого бесом. Под автопортретом – шутливая подпись «Не искушай (сай) меня без нужды».
Игра «шай» -«сай», «искушай» -«искусай» с тех пор неоднократно повторялась, но пушкинское авторство, фактически, забыто.
Впервые список был опубликован в 1887 году, и с этого момента пушкинисты всего мира регулярно его расшифровывают. Кто такая Пульхерия? А еще Катерина Вторая, Калипсо, Евгения, Катерина Четвертая. Три Анны без номеров, просто Анны.
Интересно же. Тем более, что в общей сложности у Александра Сергеевича было не 37, а, как минимум, 113 женщин. По крайней мере о своей жене, Наталье Николаевне, он пишет как о своей стотринадцатой любви.
Читать дальше