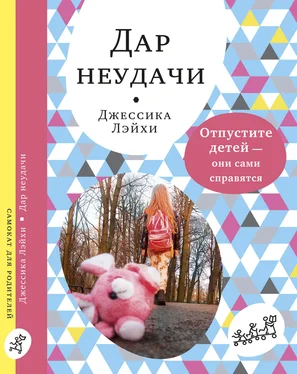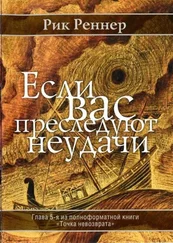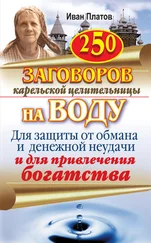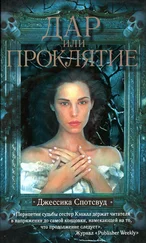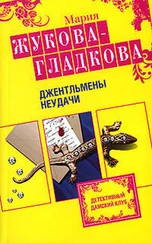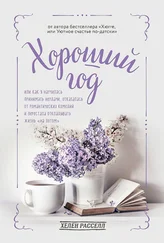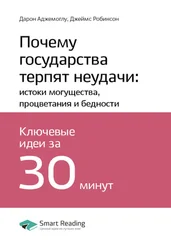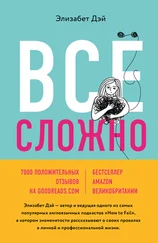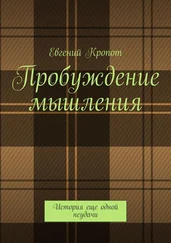Однажды, много лет назад, у меня была ученица, у которой, по словам отца, «возникли проблемы с грамотностью». Что бы они ни делала, она никогда не могла справиться с диктантом из десяти слов, заданных на неделю. За большинство заданий она получала четверки, но эти досадные двойки по правописанию постоянно отбрасывали ее в сторону четверки с минусом. В конце концов в году вышло именно четыре с минусом, и родители были вне себя от гнева. Не на девочку, а на меня. Они потребовали срочной встречи со мной и попросили о присутствии представителя руководства школы. На встрече они очень четко дали всем понять, что их дочь не из тех, кто получает в году четверки с минусом. Ее мать объяснила, что, несмотря на всю возможную поддержку, у дочки просто от природы проблемы с орфографией и ее нельзя за это наказывать. Встреча продолжалась около полутора часов, и львиную долю этого времени меня бранили за то, что я никуда не годный учитель, а также предупреждали, что я своими действиями снижаю самооценку их дочери настолько, что каждый четверг она плачет накануне пятничной проверочной работы.
Я пустила в ход все навыки общения с родителями: я слушала, старалась сохранять расслабленный язык тела и проявлять эмпатию к их фрустрации. А еще я кое-что им пообещала. Я сказала, что, если они согласятся с этой четверкой с минусом в году и начнут поощрять усилия дочери, а не ее оценки, возможно, они обнаружат, что этот кризис обернется одним из лучших моментов в ее жизни. Не сказать, чтобы это на них подействовало. Они ушли с той встречи весьма рассерженными на то, что я отказалась изменить оценку, а я осталась в смятении и очень недовольная тем, что придется снова учить их дочь в следующем году. Но я надеялась, что кое-что из моих советов все-таки найдет у них отклик и что в один прекрасный день мы все посмеемся над этой четверкой с минусом.
Следующей осенью девочка вернулась в школу со свежим задором и желанием учиться. Что бы ни произошло у них дома за лето, это сработало. Она тщательно готовилась к проверкам правописания и начала год с оценки 10 из 10. Успехи продолжились и дальше, и где-то через месяц, дежуря в читальном зале, я в очередной раз проверила ее работу и поздравила ученицу с высшим баллом. Я указала на корзину для бумаг и подняла брови, молча вопрошая: «Тебе нужна эта работа или бросить ее в макулатуру?» Девочка подошла к моему столу за диктантом и сказала: «Я должна показать его родителям, а то не получу свои десять долларов».
Ого! Она получала десятку за каждый высший балл. Меня это несколько покоробило, но, в общем-то, что тут такого? У ее родителей хватало денег на еженедельные диктанты, у школьницы появились деньги на расходы, а ее «проблемы с грамотностью», похоже, остались лишь неприятным воспоминанием. Кроме того, она была счастлива. По-видимому, договор устраивал всех и даже приносил результаты. Некоторое время. Через несколько недель после каникул оценки по правописанию снова снизились. Я уточнила – и да, родители все еще предлагали ей десять долларов за каждый высший балл. Она сказала, что в этом году у нее очень много занятий, но пообещала, что дотянет балл по правописанию до прежнего уровня. Только эти оценки так и не исправились, и учебный год она закончила примерно на том же уровне, как и прошлый.
Итак, что же пошло не так? Если десять долларов были таким хорошим стимулом первые пару месяцев, почему же поощрение перестало работать? Здесь играют роль несколько факторов. Во-первых, награды не работают, потому что люди рассматривают их как попытку контролировать поведение, подрывающую внутреннюю мотивацию. Во-вторых, люди более склонны проявлять упорство в решении задач, возникших из их свободной воли и личного выбора. Имея перед собой выбор: делать то, что они «обязаны», или что-либо другое, – большинство людей решат его в пользу того, что является плодом их автономии и самоопределения.
Психолог Эдвард Деcи, автор книги «Почему мы делаем то, что делаем: понимание внутренней мотивации» ( Why We Do What We Do: Understanding Self-Motivation ), распространил эксперименты Гарри Харлоу по внутренней мотивации у обезьян на человека. Деси попытался понять, почему маленькие дети настолько очевидно движимы любопытством и желанием понять окружающий их мир и почему этот внутренний порыв часто утрачивается старшими детьми. «У меня возникла мимолетная (и, разумеется, кощунственная) мысль, что, возможно, всему виной были именно те поощрения, правила и распределение по успеваемости, которые так широко используются для мотивации школьников, поскольку они способствовали не радостному возбуждению от познания, а печальному состоянию апатии» [21] Edward Deci . Why We Do What We Do: Understanding Self-Motivation. New York: Penguin, 1996. P. 31.
.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу