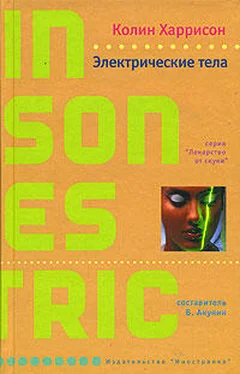Это была не столько страсть к мужу, сколько к тому, какое наслаждение он ей дарил. «Какая разница, что люди думают, малыш Гектор скоро заснет, на хрен соседей сверху, я обо всем забуду...» Шли минуты, а она купалась в гневе Гектора, понимая, что он трахает не ее – через нее он трахает весь мир, всех богатеньких ублюдков, всех тех, кто сделал его таким беспомощным. Чертовых расистов-копов. Пусть будет так, dimelo, вот в чем была сила Гектора. И она обожала эту силу, о да, на самом деле. Ее голова и руки бессильно свесились с кровати, а Гектор уделывал ее, бился в ней, бормотал ей что-то гадкое, кости его бедер больно ударялись об нее, член с силой врезался в тело, причиняя боль. Его золотая цепочка с крестом упала ей на губы, и ее язык пробовал на вкус ее звенья, а в ее голове вставали призрачные образы церковных шпилей и тяжелое нежное лицо ее отца и безликого негра, которого она видела в подземке несколько месяцев назад, мужчины с плечами размером с дыни и взлет чаек с мусора рядом с супермаркетом. Они бились в ней, бились в ней, эти серые чайки, которые прилетают в город с океана, с протоков, близ которых живут старожилы-итальянцы, они взлетали одновременно, тысячи птиц, кружась в мрачном низком небе, снова и снова, над проезжающим по эстакаде поездом F... Выше по воде плыли темные силуэты буксиров, а далеко за рекой – Нью-Джерси, и край желто-розового неба на западе, и старые мечты миллионов новых американцев, и вся эта печаль... Китаянки работают до изнеможения в швейных мастерских на Восьмой авеню, порой толстые иглы промышленных швейных машин прошивают их пальцы, и молодые мужчины вроде Гектора вбивают свою молодость в жесткие цементные улицы, и старый хасид в парке энергично бросает мяч своему сыну, и четыре мертвых черных парня перед ночным клубом, и несколько ярдов тротуара, скользких от крови, она один раз такое видела... И уже забытая, жуткая боль при рождении сына, те роды были гораздо тяжелее, и гладкое лицо священника, который один раз увидел ее на улице и поднял брови, узнавав ее, и... О, mas, mas, mas в тесной квартирке громадной, душной бруклинской ночью, она добивалась наслаждения и забвения...
А потом наступила тишина, и их сердца колотились в потной бледной усталости. Ее внутренности ныли, кипели, полные соков, ее губы были разбиты лицом Гектора, ее кожа была обожжена его щетиной. А потом настойчивый стук в дверь, тревожно зовущие голоса. Ее сын. Ее сын? Она вскочила с влажных простыней и, голая, бросилась в комнатку рядом с их спальней. Его там не оказалось. Как это могло быть? И она услышала доносившиеся в окно голоса с улицы. И, еще не посмотрев туда, она уже знала, что маленький Гектор настолько испугался звериной похоти родителей, что попытался выбраться на карниз из щербатого камня рядом с его окном, где, под ее бдительным присмотром, он часто играл на солнце. Но насколько высок третий этаж?
Гектор поспешно надел нижнее белье и выскочил из квартиры, понесся вниз по лестнице. Она перегнулась через карниз и увидела подростков, стоящих вокруг крошечной фигурки ее сына – она узнала его голубую пижаму. А потом она увидела, как ее муж растолкал их и упал на землю. Поднимая обмякшее тело на руки, Гектор посмотрел наверх, и в свете уличного фонаря она увидела его влажное, искаженное мукой лицо. Dios mio. Dios mio.
Долорес с силой прижала пальцы ко лбу, словно ее лицо было сделано из пластилина и она могла его разгладить, стерев следы горя. Потом сквозь пальцы она посмотрела на Марию, мирно игравшую в песочнице на дальней стороне двора, и крикнула:
– Доченька, пойди принеси мою сумочку!
Девочка послушно убежала в дом, а спустя секунду вернулась, неся сумку в обеих руках.
– А теперь еще минутку поиграй одна, моя хорошая, – твердо сказала Долорес, беря сумочку.
– А почему мамочка плачет?
– Потому что мне грустно.
– Почему? – отозвалась Мария, надувшись и водя пальцем по чугунному плющу на стуле Долорес.
– Потому что иногда случаются очень грустные вещи.
– Почему? – жалобно спросила Мария, ей хотелось знать, о чем говорят взрослые.
– Нам с Джеком надо кое о чем поговорить, доченька.
– Почему?
– Пожалуйста, Мария.
Девочка послушно пошла к клумбе. Когда стало ясно, что внимание дочери переключилось на что-то другое, Долорес достала из сумочки пачку бумаг разного размера, обмотанную резинкой.
– Она не помнит брата. Ей был всего год, – печально заметила Долорес. Она сняла резинку и стала тихо перебирать бумаги, пока не достала какую-то истрепанную брошюрку. Она открыла ее, просмотрела содержание, а потом протянула ее мне. – Не знаю, почему я это сохранила. Но сохранила.
Читать дальше