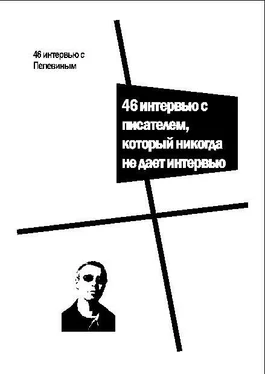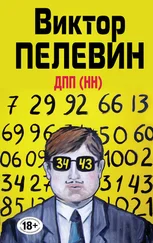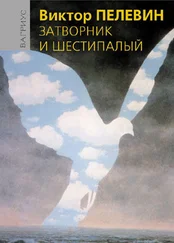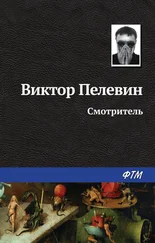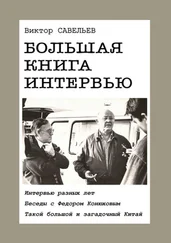в:Что касается другой теории, которую Ариэль излагает графу Т., — о греховной природе вымысла, — то, насколько я помню, идея эта средневековая и, понятно, напрямую связана с религиозностью средневекового общества и сознания. Вы думаете, что сейчас она может стать популярной в связи с усилением в стране авторитета церкви?
о:Я, честно говоря, не замечаю, что в стране растет авторитет церкви. Растет влияние церкви, но влияние и авторитет — это не всегда одно и то же. А греховность вымысла зависит исключительно от того, что это за вымысел. Я бы не стал принимать теории, которые излагает Ариэль, слишком серьезно.
в:Если говорить о религиозном аспекте романа, то вслед за княгиней Таракановой герой склоняется в сторону политеистической модели, а не единого Бога. А вам самому какая теория ближе?
о:Мне все эти теории одинаково близки или далеки, потому что все они — без исключения — являются взмахами ума в пустоте. Меня не интересует, в какую сторону и под каким углом качается этот ум, потому что любые его движения обладают одним и тем же качеством — они всегда кончаются там же, где начинаются, и не оставляют после себя никакого следа. Мало того, иллюзорен и сам этот ум, потому что «ум» — это просто обусловленное языком представление, имеющее ту же природу, что и все остальные фантомы сознания. Реальность невыразима. А религиозное для меня — это то, о чем вообще нельзя говорить. Не потому что запрещено, а потому что невозможно.
в:Многобожием очень удобно объяснять всякие свои страстишки и слабости…
о:Непонятно, почему мы должны считать эти страстишки и слабости своими. Изначально они нам не свойственны. И еще непонятно, почему мы должны кому-то что-то объяснять.
в:За что вы так приложили Достоевского, превратив его в компьютерного персонажа, поедающего колбасу и запивающего ее водкой?
о:Я вовсе не прикладывал Федора Михайловича. У меня вообще очень скромная роль — я просто стенограф, писец. Писец всему, что возникает перед моим мысленным взором, но почему перед ним появляется то или другое, я не знаю.
в:Мне, кстати, кажется, что между вами и Достоевским много общего — и у него, и у вас персонажи в большей степени носители каких-то идей. И именно идеи, а не сами персонажи вступают друг с другом в конфликт. Согласны?
о:Дело в том, что персонажи любой книги и есть идеи, у них нет никакого другого существования. «Персонажи» никак не могут вступать друг с другом в конфликт. Вступать в конфликт могут только их правообладатели. Что касается внутреннего конфликта, возникающего в сознании читателя, то это всегда конфликт представлений — это очевидно, так как в акт чтения вовлечен только один реальный участник — читатель. Но литературоведческий дискурс существует не для того, чтобы объяснять нам, как обстоят дела. Его единственная задача в том, чтобы создавать кормовую базу для литературной общественности. Когда понимаешь это, вопросы вроде того, о котором вы говорите, как-то перестают занимать.
в:Мне очень симпатична концепция Ролана Барта о том, что разные читатели вычитывают из одного и того же текста абсолютно разное. Можете смоделировать варианты того, что разные люди с разным опытом и уровнем образованности вычитают из вашего романа?
о:Могу. Только непонятно, почему это концепция Ролана Барта. Я вот в прошлом веке знал одного пионера в городе Одессе, у него была та же самая концепция. И у меня такая тоже есть, своя собственная, и ничуть не хуже.
в:Пять кодов текста Барта (Эмпирии, Личности, Знания, Истины и Символа) вы превратили в пятерку довольно неприятных литературных негров. Напрашивается вопрос: у вас тоже есть «помощники», труд которых вы потом правите железной редакторской рукой, отсекая лишнее?
о:Если говорить о манипуляциях с кодами Барта, то, мне кажется, вы здесь отчасти смешиваете меня с Соссюром. А что касается помощников, то Александр Блок писал в одной из своих статей, что в распоряжении каждого художника имеется множество мелких служебных демонов, которым можно давать различные поручения, и в этом смысле труд писателя или поэта — это именно редактирование материала, который собирают и приносят эти сущности. С моей точки зрения, люди для этой цели подходят плохо. Их даже назвать прилично не получается. «Литературный негр» звучит шовинистически. А «литературный афророссиянин», как сейчас стали говорить, — слишком далеко от наших реалий.
Читать дальше