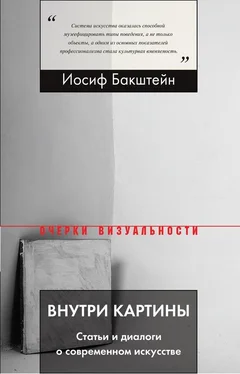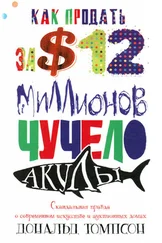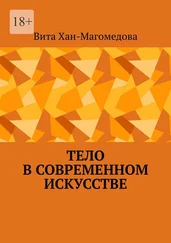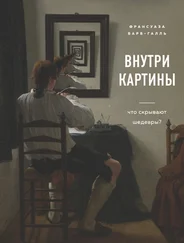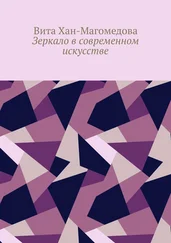13. Классическая картина, являясь знаком отражения внешней реальности, утверждает существование этой реальности, демонстрирует собой достоверность картины мира – мира, созданного Творцом. Напротив, картина модернистская есть знак внутренней реальности художника, реальности, которая оказывается единственно гарантированной, поскольку, если верить Ницше, Бог в какой-то момент умирает. Исходя из субъективности внутреннего, модернизм может производить только «неконвенциональные» вещи, толкование которых берет на себя интеллектуал-посредник. Смысл эстетического акта смещается в область интерпретаций и комментариев. Демонстративная простота художественных средств возмещается изощренностью интеллектуальных усилий.
14. Игра в элитарность принимает новый оборот по мере того, как модернист (или постмодернист) деконструирует свою собственную культурную роль. Дюшан утверждал, что любая вещь может стать искусством. Йозеф Бойс, в свою очередь, исходил из того, что любой человек может стать художником. Наконец, на следующем этапе «обобществления прекрасного» «всем и каждому» предлагается роль интеллектуала-интерпретатора. Зритель помещается в такую схему, в которой фигура интеллектуала теоретически неустранима, но вакансия свободна. Наблюдая в музейном или выставочном зале в качестве произведений нечто странное и не будучи в состоянии получить немедленное разъяснение, зритель включается в процесс интерпретации того, что он видит. Таким образом, привнося в интерпретацию собственную личную историю и личный миф, из постороннего наблюдателя он превращается одновременно и в комментатора, и в (со)автора этого произведения.
15. Совращающая интенция массовой культуры направлена на то, чтобы через медиализацию порождать потребителей. Но если массовая культура опускает человека до состояния потребителя, то современное искусство возвышает его до состояния интерпретатора («любой человек может стать интеллектуалом»). Этот конфликт и является сутью того противоречия, о котором говорит Катрин Давид.
Интересно, что придание такого рода «избранности» рядовому зрителю есть не просто намерение отдельных представителей арт-мира, а институционализированная интенция, на реализацию которой работает вся структура. Все это имеет одну цель – вывести зрителя из пространства манипулируемости и потребления и сделать его равноправным участником процесса производства и воспроизводства тавтологий, комментариев к некомментируемому и интерпретаций неинтерпретируемого. Ведь именно к этому процессу сводится «современное искусство» со времен Дюшана.
16. Проблема противостояния коммерческого и некоммерческого актуальна только для изобразительного искусства. Только в изобразительном искусстве есть строгое деление институтов на профитные и нон-профитные организации. Такое деление вызвано спецификой рынка уникальных произведений, а также потенциальными конфликтами интересов между фигурантами арт-мира. На это могут возразить, что некоммерческие организации, то есть организации, существующие не благодаря своей деловой активности, а на различные гранты и спонсорскую помощь, распространены и в театральном мире, и в издательском деле, и кино, как известно, бывает малобюджетное. Но это все примеры маргинальных в соответствующем виде искусств проектов, в то время как в изобразительном искусстве некоммерческие проекты являются структурообразующими.
17. С тех пор как Беньямин сформулировал состояние современного нам искусства как искусства воспроизводимости, смысл изобразительного искусства можно усматривать именно в упорной борьбе с тиражируемостью произведения и, как теперь становится понятно, с индустриализацией искусства (и в искусстве). Как известно, Беньямин увидел симптом воспроизводимости в кино как массовом зрелище и в фотографии, сам смысл которой заключен в многотиражности. Несмотря на это, фотография, которая конституирует себя как искусство (в отличие от документальной или рекламной съемки), стремится всеми силами противостоять тиражируемости, заложенной в ее природе. Институт limited editions, например, является одним из таких средств сопротивления. Авторские принты подписываются и нумеруются, художественная фотография обычно не производится тиражом более пяти отпечатков, существуют многочисленные техники обработки физической поверхности изображения, посредством которых тиражируемому в принципе объекту придается статус уникального произведения. Еще в большей степени, чем в фотографии, стремление к борьбе с тиражируемостью свойственно перформансу и видеоинсталляции. В случае видео носитель изображения (видеокассета) еще в большей степени, чем фото– или кинопленка, располагает к тиражированию. Отсюда возникает проблема для системы изобразительного искусства – как эту тиражируемость ограничить, если не подавить вообще? Существуют чисто институциональные приемы (например, авторское право на мастеркопии, что ограничивает возможное количество репродукций). Но главная роль в обуздании тиражируемости все же принадлежит художнику: при каждом новом экспонировании в выставочном пространстве инсталляция не воспроизводится, а воссоздается заново, элемент неповторимости вводится личным вмешательством художника в размещение технических средств воспроизводства изображения, так что каждый раз эффект от этого вмешательства оказывается беспрецедентным и неповторимым, тем самым вновь и вновь утверждая установку изобразительного искусства на создание уникального.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу