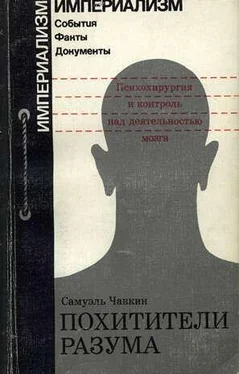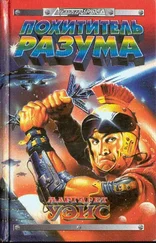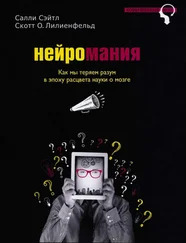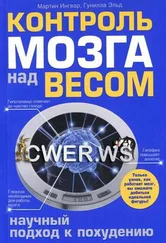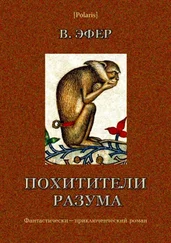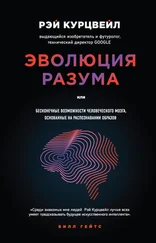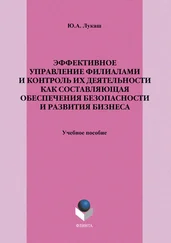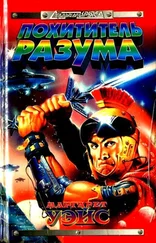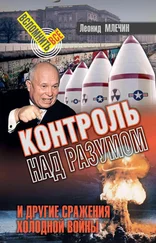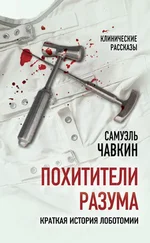Практической реализацией такого рода теоретических постулатов явилось, в частности, принятие законов о принудительной стерилизации «психически неполноценных» лиц. С. Чавкин подчеркивает логическую связь «социобиологии» с такого рода антигуманными мерами.
Слишком явное созвучие подобных идей расовой теории фашизма, получившей свое практическое воплощение в массовом истреблении людей, потребовало смягчения формы выражения, но отнюдь не изменило их существа. С. Чавкин недаром не раз напоминает теоретикам и практикам «модификации поведения» о поразительном сходстве «научных» основ их экспериментов с опытами над людьми, которые ставились в гитлеровских концлагерях. Однако опровергнутые учеными, заклейменные приговором Нюрнбергского трибунала, противоречащие элементарным принципам гуманности идеи, обосновывающие необходимость разрушения индивидуальности ради «избавления общества» от нежелательных видов поведения, не только не уходят в прошлое, но распространяются все шире. «В настоящее время, — пишет С. Чавкин,— все более широкое распространение получает «научная» теория, возлагающая ответственность за некоторые актуальнейшие проблемы сегодняшнего дня (такие, например, как бурный рост насилия) на отдельных индивидов, чье не поддающееся контролю поведение объясняется либо причинами генетического порядка, либо дефектами нервной системы. Эти люди, как утверждают приверженцы такой теории, либо являются жертвами плохой наследственности, либо страдают тем или иным заболеванием мозга, либо имеют лишнюю хромосому, либо подвержены воздействию всех трех факторов одновременно».
Поразительная живучесть теорий, рассматривающих «модификацию» поведения как «средство решения тех проблем, которые в основе своей носят социально-экономический характер и требуют принятия политических решений», не является случайной. В ее основе лежат причины не только методологического, но и политического характера. Указанные теории объективно способствуют процессу ломки режима буржуазной законности (а этот процесс имманентно присущ эпохе империализма) без открытого и явного нарушения конкретных норм права.
Политическая выгода такой формы ликвидации законности для правящих классов очевидна. Нельзя забывать о том, что поддержание в массах иллюзий «надклассовости» закона, демократичности существующего правопорядка и т. д. представляет собой важное звено в системе идеологических мер воздействия, применяемых буржуазной государственной машиной.
Теории же, объясняющие причины «нежелательного» поведения психическими аномалиями, служат удобной ширмой, под прикрытием которой, во-первых, можно применять насилие не в форме государственно-правовых санкций, а в качестве «медицинских мер лечения», и, во-вторых, применять его к неопределенно широкому кругу лиц, а не только к нарушителям закона.
В силу того, что характер, масштаб и форма применения уголовной репрессии непосредственным образом отражают степень демократичности общества, ее применение всегда связано с большей или меньшей степенью гласности, а следовательно, и привлечением внимания общественности. Правящие круги понимают, что применение дубинок и слезоточивого газа выглядит куда как менее «респектабельно», чем скальпель психохирурга. Поэтому, как отмечает С. Чавкин, психохирургия может быть включена в арсенал полиции.
Свобода и неприкосновенность личности могут быть нарушены не только арестом и заключением в тюрьму. Принудительная изоляция с целью «лечения» — еще более опасное орудие произвола, поскольку его использование еще более бесконтрольно, а категория лиц с «отклоняющимся» поведением столь широка, что не поддается четкому правовому определению.
Итак, первым шагом к разрушению конституционных гарантий личности выступает утверждение, согласно которому «корень зла» заключен в самом правонарушителе. Но если это так, то вполне «логичен» и второй шаг — правонарушителя можно и нужно «лечить». А за этим следует и третий шаг: если можно «вылечить» преступника, то почему такой «привилегии» лишены другие категории лиц с «нежелательным» поведением.
Ссылаясь на признание директора ЦРУ О. Тернера в применении психотропных средств и иных методов подавления сознания человека с целью промывания мозгов», С. Чавкин пишет: «Стоит ли говорить, что подобные методы воздействия на поведение людей могут найти и более широкое применение, чем только обезвреживание иностранных шпионов. Любой человек мог бы на себе испытать эти методы, если бы его поведение или образ мыслей оказались не по вкусу власть имущим».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу