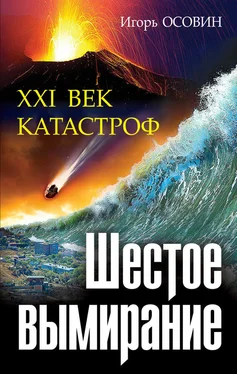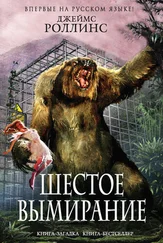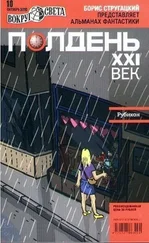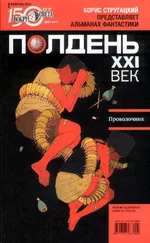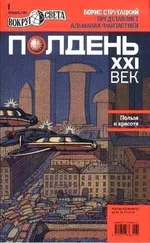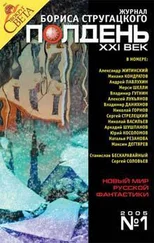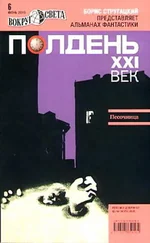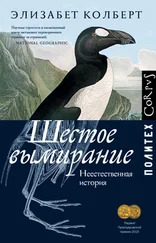Оказывается, выход есть, хоть он и крайне рискованный. Можно провести серию подводных ядерных взрывов, с тем чтобы уходящую под воду литосферную плиту, вершиной которой являются Японские острова, в нужном месте как бы разломить и тем самым освободить от веса второй плиты, которая подминает её под себя. Эксперимент, что и говорить, рисковый, но – делать нечего!
Быстро создаётся группа из числа учёных-добровольцев. Серия мощнейших взрывов проходит успешно, но отважный главный герой, как и полагается по закону жанра, погибает, ценою своей жизни обеспечивая выполнение ответственного задания и спасая свою Родину от неминуемого Апокалипсиса.
Замечу, что в России японский кинематограф в своей массе известен гораздо хуже, чем не то что даже американский (это-то понятно), но и европейский. А кино, помимо прочего, интересно ещё и с точки зрения анализа того, какие мысли тот или иной фильм транслирует зрительской аудитории и наоборот – какие мировоззренческие установки создатели фильмов вбирают от своего национального зрителя. И с этой точки зрения у японского кинематографа имеется одна из характерных особенностей – как режиссёры Страны восходящего Солнца, так и зрительская аудитория имеют пристрастие к фильмам-катастрофам. Взять ту же, к примеру, историю про гигантского обитателя морских глубин Годзиллу: ведь этот киноперсонаж появился сначала в японском кино (причём далеко не в одном и не в двух фильмах), и только потом, годы спустя, этот сюжет был взят на вооружение Голливудом.
Кинематограф, как и другие каналы формирования общественного мнения, созданные на фундаменте англо-саксонских принципов общественного мироустройства, способен незримо, но весьма эффективно воздействовать на аудиторию. Причём воздействовать, в том числе, в строгом соответствии с моделью, которая была сформулирована преждевременно ушедшим из жизни американским электроинженером и юристом Джозефом Овертоном (Joseph Overton; 04.01.1960 – 30.06.2003), которая сегодня так и называется – «окно Овертона». Иначе говоря, увиденное в кинофильме вполне может закладывать в голову смотрящего этот фильм допущение о том, что нечто может случиться или произойти. И когда это нечто и в самом деле происходит, человек оказывается, в принципе, более готов воспринимать некое событие или известие.
Важным моментом в такого рода формировании общественного мнения, конечно же, является то, что в социальной психологии называется «социальным архетипом» или – особенностью национального характера. То, о чём писал, к примеру, француз Гюстав Лебон или российский социолог Валентина Чеснокова. Национальный характер, как, опять же, известно из социальной психологии, хорошо отражается в фольклоре, в том числе – в поговорках и пословицах. К примеру, в русской культуре есть популярное выражение «живём, как на вулкане», означающее наличие постоянных нестабильностей, внутреннюю готовность каждого отдельно взятого человека к возникновению каких-то негативных, неприятных событий. То же – и в японской культуре. Только японцы, в отличие от, скажем, русского этноса, физически живут на вулканах. «Сделай всё, что можешь, а в остальном положись на судьбу» – эта японская пословица, как и многие другие аналогичные образцы, достаточно точно выражают суть японского национального характера.
Допустим, что моя версия о сведениях, обладателем которых стал Коки Исии, верна. Это вовсе не означает, что, в частности, тот же японский кинематограф последних десятилетий готовит японцев к катастрофам общенационального масштаба. Тут, скорее, могло быть иначе – именно кинематограф, равно как и особенности японского национального менталитета, могли в какой-то степени натолкнуть кое-кого в Японии на «рационализаторскую» мысль об оригинальном способе преодоления застойных явлений в японской экономике, почему бы и нет? В конце концов, «в начале было слово…».
Вернёмся к истории с сектой Сёко Асахары «Аум Сенрикё». В мае 1995 года, задаваясь вопросом – что же, на самом деле, произошло 20 марта в токийском метро? – газета «Коммерсантъ» в статье «Дело японской секты “АУМ Сенрикё”. Зарин, средство постижения истины» не без оснований заметила, что было бы неверно рассматривать секту «Аум Сенрикё» как исключительно гангстерскую, террористическую организацию, руководство которой преследует чёткие и сугубо прагматические цели. Многие японские и западные обозреватели уже тогда, в 1995 году, отмечали, что учение этой секты глубоко укоренено в японской культурной традиции.
Читать дальше