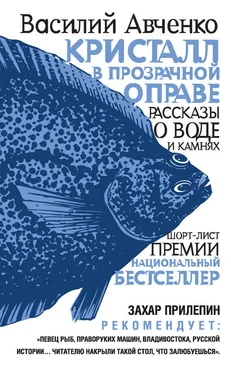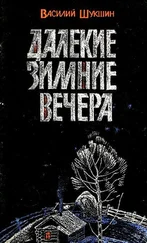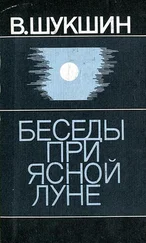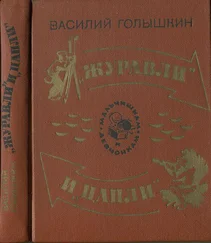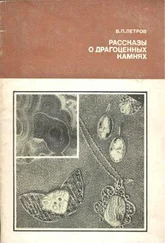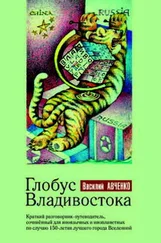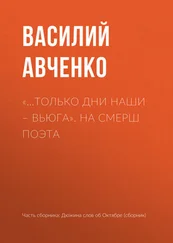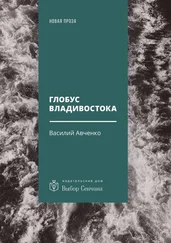От описательной минералогии, понимавшей каменную оболочку планеты как что-то данное раз и навсегда, занимавшейся лишь классификацией сущего, Вернадский и Ферсман пришли к геохимии, понимающей конкретный минерал как временный этап в вечном превращении вещества, которое подчиняется высшим мировым законам. Камни рождаются, развиваются и умирают, превращаются в другие камни. Геохимия – наука о жизни, смерти и новой жизни не столько камней, сколько элементов, их составляющих. Земля продолжает жить, кипеть, дышать своим глубинным теплом, сталкивать континенты, топить их в море, вздыбливать и растворять хребты, менять контуры океанов, разрушать и снова созидать – просто человек умирает слишком быстро, не успев увидеть и одной смены кадра этого планетарного фильма. Видя лишь один моментальный снимок, мы можем подумать, что Земля – нечто застывшее, статичное, как фотография, но это не так (то же самое с человеческой историей: никакого «конца истории» не будет, пока есть человек). Жизнь планеты – кинолента, на кадрах которой рождаются и гибнут континенты, высыхают океаны, происходит какая-то безумная глобальная алхимия. Мы видим лишь застывшую корку «земной коры», кое-где прорывающуюся вулканами и гейзерами, которые доказывают нам зримо, что Земля – живая, что она – дышит. Если бы мы могли посмотреть ускоренное кино о будущем нашей планеты, это было бы круче любого триллера.
Геохимия и геология вполне тянут на звание религии (предание об Атлантиде вполне геологично, равно как о великом потопе). Если прикладную геологию можно свести к утилитарному поиску «полезных ископаемых», то фундаментальная геология – буквально «наука о земле», «знание о земле» – докапывается до начала начал, до момента и механизмов образования Земли, на которой возможно наше появление. Такая наука не может не быть наукой и о человеке. «В… истории минералогии понимание её содержания изменилось до неузнаваемости. И это содержание подвижно, оно меняется, углубляется», – писал в 1928 году Вернадский, увлечённый биограф самых коренных обитателей нашей планеты – химических элементов.
С детства наряду с Джеком Лондоном и Жюлем Верном я зачитывался и Ферсманом с Обручевым [17], и более сухими, но всё равно увлекательными книгами минералогов Смита и Шумана.
Стоит открыть прекрасно иллюстрированного Вальтера Шумана – «Мир камня» в двух томах – и ко мне возвращается детское ощущение волшебства. Сколько раз я его читал (торопливо пролистывая казавшийся тогда неинтересным раздел горных пород), рассматривал фотографии, навсегда скопированные, как я сейчас понимаю, на флэш-карты моего мозга, делал выписки, которые, наверное, до сих пор лежат где-то у родителей. Взрослые удивлялись тому, как я, мальчик лет десяти, без запинки рассказывал о сингониях, шкале Мооса, спайности, изломах, отличиях амфиболов от пироксенов, кварца от опала, ортоклаза от микроклина, гипса от ангидрита. Собирал коллекцию, исследовал окрестные скалы, различал аммониты и белемниты, пирит и марказит, рисовал кристаллы, наизусть помнил вес алмаза «Куллинан». Млел от словосочетаний «карлсбадский двойник» или «осадочная порода»… Это позже я отошёл от камней, увлекшись разной дребеденью.
* * *
Камням мы обязаны отличными метафорами, хотя часто этого не осознаём. Янтарный бульон, кристальной честности человек, гранит науки, пустая порода, алмазная твёрдость… Одно из самых лучших слов – «порода»: в ней слышатся род, родина, самородок, выродок, урод, рождение, народ – много чего слышится.
Геология – наука метафороёмкая, её образы приложимы к чему угодно. Вот Арсеньев пишет об «инородцах» – обитателях Азии и Америки, тунгусо-маньчжурских народах, терявших под воздействием более сильных племён свои язык и облик: «Как в геологии осадочные пласты прикрывают основную материковую породу, так и на этих народах лежит ряд побочных наслоений, под которыми уже трудно видеть прежнего американца…». В языке возникли и сохранились выражения «под лежачий камень вода не течёт», «твёрдый как камень» (хотя есть мягкие камни – тальк, гипс, гагат…), «каменное сердце», «камень преткновения», «подводная часть айсберга», «самородок» (то есть металл, появившийся на свет чистым, а не в составе руды) в значении «талант»… Мы по-прежнему охотно одалживаем эти метафоры у природы, хотя удаляемся от их осязаемой основы.
Есть мандельштамовский «Камень» – первый сборник стихов поэта, окончившего свои дни во владивостокском пересыльном лагере. Говорят, там он работал на каменном карьере, таким образом закольцевав свою жизнь. Остатки того карьера сохранились до сих пор.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу