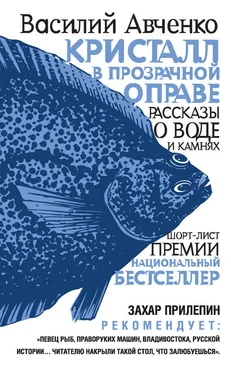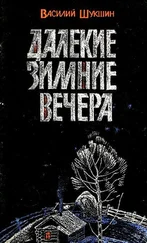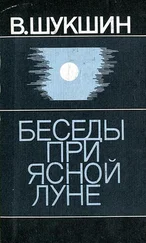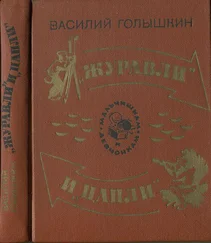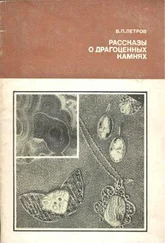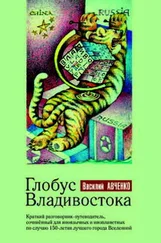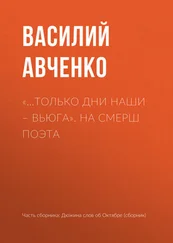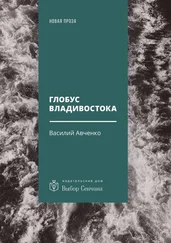* * *
Неожиданно рифмуются минерал «бирюза» мягких голубых или голубовато-зелёных оттенков и сибирская речка Бирюса – в детстве, задолго до эпохи Samsung ’а, у нас был одноимённый отечественный холодильник. Сходство обманчиво: «бирюза» произошла от персидского «фероза».
Изумруд, бывший «смарагд»; академик Зализняк говорит, что это слово взялось в одном из языков семитской группы, откуда перешло в санскрит. Во время походов Александра Македонского перекочевало в греческий, потом в арабский, персидский, турецкий и только оттуда – в русский. Слово-скиталец.
Сапфир, напоминающий о поэтессе Сапфо (Сафо). Рубин, его брат, – от «красного». Бедный родственник элитных рубина и сапфира – чернорабочий наждак, идущий на абразивы. Наждак работает мышцами и в итоге стирается до ничего, тогда как его именитые братья, которым повезло больше, торгуют лицом и живут в почёте. Мне ближе и симпатичнее наждак, минеральный пролетарий; я надеюсь, у него хватит сил совершить революцию.
Уваровит был открыт на Урале в 1832 году академиком Гессом и назван им в честь министра просвещения России, президента академии наук графа Уварова. Странно, что у нас ещё не появилось «путинита».
Гётит получил имя не случайно: именно Гёте создал первое в мире Минералогическое общество. Второе появилось в Петербурге в 1817-м, но создал его не Пушкин, хотя настоящий геолог – всегда поэт. Даже идентификация камней происходит при сравнении таких признаков, как «излом», «черта», «спайность», «блеск» – сколько тут поэзии: излом может быть раковистым, блеск – стеклянным или шелковистым… Геолог, в отличие от поэта, должен жить долго, чтобы успеть подстроиться к неторопливому ритму жизни камня.
Настоящий геолог – не только поэт, но и космист. Космистом был Цареградский – один из отцов колымского золота. Билибин и Цареградский, открывшие золото на притоках Колымы, – последователи философа Фёдорова, учёных Циолковского и Вернадского; и одновременно – предшественники колымчанина и конструктора Королёва и первого космиста-практика Гагарина.
Академик Ферсман, поэт от геологии, был учеником Вернадского, автора «Истории минералов» и «Опыта описательной минералогии». Они вместе заложили основы геохимии и добились открытия первого в мире Ильменского минералогического заповедника на Урале, фактически приравняв камни к фауне, исчезающим животным. Постановление о создании заповедника подписал Ленин 14 мая 1920 года – в стране ещё шла Гражданская. И Ферсман, и Вернадский ушли из биосферы в литосферу и ноосферу в 1945-м, хотя первый был на двадцать лет моложе.
Поэт от истории, сын поэтов Лев Гумилёв, объяснявший необъяснимые движения народов, тоже одно время работал геологом – вынужденно, но не напрасно. Фантаст-космист Иван Ефремов и учёный-священник Тейяр де Шарден, объединивший теорию эволюции с религией, были палеонтологами. Мой отец, не прекращая заниматься метаморфическими проблемами, занялся метафизическими. Мне хочется видеть здесь закономерность.
В мировой литературе есть образы алмаза, рубина, сапфира, но нет – кварца, полевого шпата, кальцита. Это несправедливо.
Чуткие авторы всегда писали о камнях. От Хайяма до Куприна, от Рабле до Данте, от Горького до Мопассана – все восхищались красотой камней и писали о ней, пусть вскользь. Коллинз писал о «лунном камне», Конан-Дойль – о «голубом карбункуле», не понимая толком, какой камень имеет в виду.
А вот – из очерка юного Вампилова: «И тут добрая, чуткая женщина Лида произнесла эту грубую, тяжёлую, как диабаз, фразу: “Не положено”».
По-настоящему понимали камни немногие – Бажов, Мамин-Сибиряк, Ферсман. Бажов пересказывал легенды прежних обитателей Урала и в этом смысле не столько придумывал, сколько сохранял. Он уловил мистику камня. Мамин-Сибиряк в «Золоте» писал об уральских же золотоискателях, но своё настоящее понимание камня, свои каменные откровения изложил – как бы между прочим – в очерках «Самоцветы» о знаменитой Мурзинке – «уральской Голконде»: «В старину не только люди были лучше, но, как оказывается, даже и камни…».
О Ферсмане нужно сказать особо, потому что без него всё равно не обойтись, его тень – где-то поблизости.
Однажды у подъезда моего дома выложили за ненадобностью целую библиотеку. «Наверное, учёный помер», – подумал я, изучая корешки; забрал себе ферсмановские «Очерки по минералогии и геохимии». Вы не представляете, как увлеченно может читать гуманитарий книжку с таким скучнейшим названием. А «Воспоминания о камне», «Рассказы о самоцветах», «Занимательная минералогия», «Очерки по истории камня» – это никакая не геология и не геохимия. Это поэзия, откровения и пророчества.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу