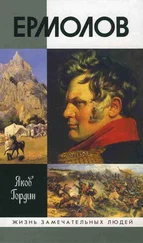«Говоря о том, до чего иногда удается дожить: я, конечно же, не против невской инициативы, но хотел бы все-таки контролировать выбор. Я предпочел бы длинные стихотворения: Натюрморт, Бабочка, – если говорить о ранних; Квинтет, обе Эклоги, Муха – из того, что попозже. Все это можно пересыпать мелочью из Части Речи (начав, скажем, с Ниоткуда с Любовью и кончая, допустим, Мысль о тебе удаляется – из Урании, каковую прилагаю) или из той же Урании и из Жизни в Рассеянном Свете. Я бы, конечно, хотел видеть и Осенний Крик Ястреба и Развивая Платона и много чего другого, – но человек предполагает, а…
Вообще хорошо бы, чтобы кто-нибудь приглядывал за всеми этими делами (я почему-то убежден, что произойдет лажа, но оправдания будут благородные); но мне неловко просить кого бы то ни было об этом – тем более тебя или Женюру. Все эти заботы мне несколько внове и даже раздражают.
Целую тебя и Тату, нежный привет Сашеньке».
Женюра – это, соответственно, Евгений Рейн, а Сашенька – Кушнер.
С «Невой» все прошло благополучно, как мы увидим. А вот публикацией в «Новом мире» он остался страшно недоволен. Недаром он, все же, просил меня – «если тебе не особенно против шерсти» – связаться с журналом, но, разумеется, никаких возможностей влияния у меня не было.
«Процесс пошел» и развивался стремительно. И действительно, надо было что-то делать.
14 июля 1988 года он прислал мне из Лондона очень занятное послание.
«Милый Яков, для начала несколько слов об общей шизофреничности (букв, перевод этого термина – расколотость, раздвоенность, пополамность сознания) моего существования, прежде всего, я – Близнец, и это одно уже предполагает Ваньку-Встаньку (Встаньку, замечу, реже). Далее – существование в двух культурах, в двух языках, воплощенное не только в шевелении мозгами, но – главное – географически. С этим еще можно справиться, и в течение последних шестнадцати лет я, более или менее, справлялся. На некоторое время раздвоенность эта, казалось, даже исчезала; верней выражалась только в отношениях с бабами. Правда, лет десять я преподавал – и, следовательно, жил – в двух уч. заведениях. Теперь преподаю в одном (вернее сразу в пяти, но они все в одном месте, в радиусе 10-ти миль) но это ничего не меняет, потому что с января по май живу в Массачусетсе, остальное время – в Нью-Йорке (тут я привираю, потому что на лето всегда стараюсь из штатов удирать – жара невыносимая), и этим тоже, в общем, можно было кое-как справиться. Но наступило торжество справедливости в Отечестве, и, даже для меня лично, вовне. И тут я перестаю уже что бы то ни было соображать. Как у того вообразившего себя часами психа из анекдота, голова мечется из стороны в сторону все быстрее и быстрее… сегодня, например, я подбирал стишки для “Континента” и вдруг подумал: а не послать ли их в “Огонек”?…
У меня все – в двух экземплярах: жилье, книги, таблетки, бритв, принадлежности, пиджаки, квартплата, телевизоры, телефоны, публикации, читатели и т. д., и т. п. Одна – только машина, и в ней-то, катя из Массачусетса в Нью-Йорк или обратно, я и чувствую себя человеком… Теперь даже два человека занимаются судьбой моих худ. произведений: ты и Женюра…»
И дальше, после значительного по объему текста, посвященного пластинке, которую выпускал Михаил Козаков, Иосиф четко формулирует – не в первый раз – свое представление об отношениях поэта и читателя.
«Моя единственная забота, чтоб не было накладок, т. е. дублирования.
Обидно, конечно, что все это как-то рассыпается по журналам: “Зимнюю Эклогу” надо было печатать рядом с “Летней”, да и остальные стишки уж больно разнесены во времени. Мне не жаль себя, своего “доброго имени”; просто читатель бы больше выгадал: ради него, в конечном счете, стараешься – чтоб больше был на человека похож. А то, когда все это по крохам дробится, он просто головой покивает: ну да, мол, отметился, “читал”. Поверь, я не переоцениваю себя и эффективность мной сочиненного: я просто считаю, что читателя надо ставить в зависимость от автора (любого), надо давать ему большие куски этого добра, а не кормить его птифурами. Птифуры эти на руку сам знаешь, кому; так всегда было, еще до прихода красных: это-то и называется журнальной политикой: чтоб человечка развлечь, не оставить в рамках существующей реальности. Стишок же от реальности этой должен и может избавить – особенно, когда он длинный и не один. И особенно сейчас это важно, в эпоху настоя и брожения».
И дальше идет принципиально важный текст, который я цитирую значительно позже: «Но нынешнее дело – дело нашего поколения…» И т. д.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу