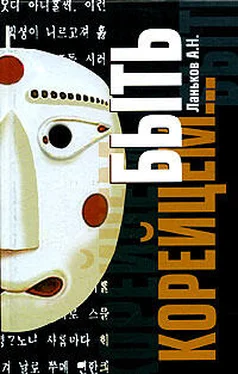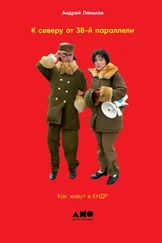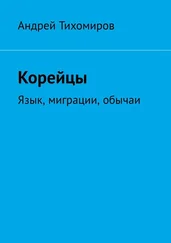Корейские националистические историки подробнейшим образом описывают, как в середине I тыс. н.э. корейские ученые, миссионеры и ремесленники принесли цивилизацию в Японию. При этом они стараются не привлекать внимания к тому обстоятельству, что «цивилизация», о которой идет речь, являлась китайской : корейцы учили японцев китайской иероглифике, китайской философии, китайским технологиям, которые они сами усвоили несколькими веками ранее.
В то же самое время сказать что-либо позитивное о японском влиянии на Корею в колониальные времена сейчас равносильно академическому или политическому самоубийству – несмотря не то, что в общем и целом вся «технология» жизни корейского общества по-прежнему устроена по японскому образцу. Японскими остаются принципы менеджмента, организация транспорта, форменная одежда, стиль изложения материала в научных статьях, методика проведения археологических раскопок, стиль официальных бланков, архитектура универмагов и многое, многое другое. Однако эти связи – совершенно очевидные для иностранца – в самой Корее либо замалчиваются, либо с гневом отрицаются.
Лицо врага
Корейский национализм интересен тем, что он достаточно четко направлен против одной страны – Японии, ближайшей соседки Кореи. Вызвано это тремя обстоятельствами.
Во-первых, японский колониальный режим был, скажем прямо, одним из самых жестоких во всей истории прошлого столетия. Хотя многие из рассказов о его преступлениях и являются пропагандистскими страшилками, японцы совершили немало вполне реальных преступлений. Вдобавок, они не скрывали своего презрения к корейцам, которых воспринимали как людей низшего сорта.
Во-вторых, корейский национализм формировался в кругах эмигрантской антиколониальной (то есть антияпонской) интеллигенции. Для деятелей шанхайского правительства в изгнании Япония была главным врагом, и поэтому разработанная ими идеология и мифология, весь националистический нарратив, был направлен на посрамление и разоблачение надменного восточного соседа.
Во-третьих, в послевоенной Корее выбор Японии на роль «врага №1» был, бесспорно, логичен и с точки зрения политической прагматики. «Врагом №1» не могли стать США – главный спонсор нового режима. На эту роль не годилась и Россия-СССР, отношений с которой у Кореи на протяжении б о льшей части ее истории попросту не было. Не подходил и Китай, в котором у власти стоял (относительно) дружественный гоминьдан.
Сотни томов можно заполнить теми обвинениями, которые выдвигают корейские националисты против своих восточных соседей. Некоторые из этих обвинений вполне обоснованы, некоторые – фальсифицированы, некоторые – просто комичны. Ограничусь здесь лишь несколькими примерами – случайными, но, надеюсь, характерными.
Вот – неплохая научная статья об истории медицинского обслуживания в Корее. Автор начинает ее с традиционных антияпонских инвектив, без которых не обходится сейчас ни один корейский историк. Он утверждает, что «состояние здоровья корейцев в период японского колониального управления было очень плохим, средня продолжительность жизни составляла 22,6 лет для мужчин и 24,6 лет для женщин». [2] Gil Soo Han. The Rise of Western Medicine and Revival of Traditional Medicine in Korea. – «Korean Studies», Vol.21. Honolulu, «University of Hawaii Press», 1997. P.99.
Человек, знакомый с корейской исторической демографией, не может не улыбнуться, прочтя этот пассаж. Дело в том, что эти цифры относятся к 1910 г., то есть году установления японского колониального режима. Понятно, что цифры эти в действительности отражают ситуацию, существовавшую в независимой, доколониальной Корее. Кстати, когда японцы покидали Корею, продолжительность жизни была другой – 43 года у мужчик, 44 года у женщин. За 35 лет колониального рабства средняя продолжительность жизни выросла почти в два раза (главным образом, за счет внедрения водопровода, канализации и проведения простейших гигиенических мероприятий).
Даже, казалось бы, политически нейтральные действия японской администрации неприменно интерпретируются как проявление зловещих планов. Так, в краеведческой книге по истории колониального Сеула, глава о Сеульском вокзале озаглавлена «Сеульский вокзал – точка отсчета для [японской] агрессии на континенте». В другой – весьма интересной – книге по истории сеульской архитектуры раздел, посвященный зданиям тридцатых годов, назван ещё красноречивее: «Банки и универмаги – плацдарм экономического ограбления»!
Читать дальше