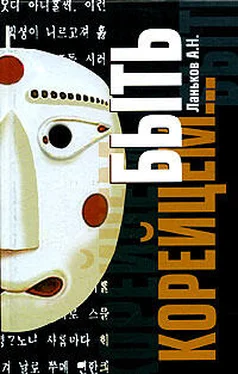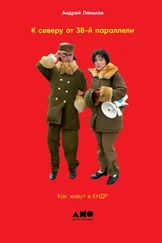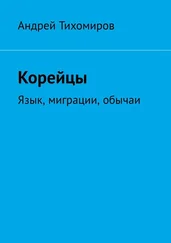Отношение к крестьянству в старой Корее, как и в других странах конфуцианской Восточной Азии, было куда более почтительным, чем, скажем, в средневековой Европе или России. Конфуцианская традиция выделяла четыре вида занятий: государственную службу, крестьянствование, ремесло, торговлю. Перечислялись они именно в таком порядке – по мере убывания престижа. Крестьянин считался вторым по значению человеком в государстве, он уступал только бюрократу-интеллигенту, представителю собственно правящей элиты. Если в старой России или Европе для помещика было немыслимо самому идти за плугом («не дворянское это дело»), и поведение Льва Толстого даже в просвещённом XIX веке воспринималось как неуместное оригинальничанье, то на Дальнем Востоке никто не видел ничего зазорного в том, что какой-нибудь крупный чиновник сам пахал землю, а его жена лично пряла или ткала. Зачастую такие вещи делались демонстративно, чтобы показать ту «суровую простоту нравов», которую так ценило официальное конфуцианство. С другой стороны, для многих бедных корейских дворян-янбанов никакого спектакля, никакой демонстративности в таком поведении не было: им действительно приходилось кормиться с земли своим трудом. Заниматься торговлей или ремеслами янбанам запрещалось, а вот сельскохозяйственный труд считался вполне приличествующим их «благородному» положению.
Однако уважение – уважением, а деньги – деньгами. В своей массе крестьяне старой Кореи были куда беднее, чем их европейские или русские собратья. Отчасти вызвано это было высокой плотностью населения и, следовательно, хронической нехваткой пахотных земель, а отчасти – и низким уровнем сельскохозяйственной техники, её заметным отставанием от того уровня, который существовал у соседей. Современные корейские националисты, само собой, обычно отрицают, что такое отставание вообще имело место, но этот факт не вызывал никаких сомнений у корейских интеллигентов XVII-XIX веков, которые старались внедрять в Корее китайские агротехнологии.
С точки зрения государства, свободные крестьяне, которые составляли примерно 70% населения страны (ещё 20% было крепостными), были, в первую очередь, налогоплательщиками. Именно крестьяне несли на себе основные повинности, от которых дворянство было освобождено. Этих повинностей было три – земельный налог, воинская обязанность и трудовая повинность. Главной проблемой был, конечно, налог, который взимался в зависимости от урожая. Чиновники периодически составляли подробную опись всех обрабатываемых земель страны. В зависимости от плодородия, земельным участкам присваивалась определённая категория. Чем плодороднее была земля, тем больше с неё следовало платить. Принималось во внимание и то, урожайным ли был год (налог собирали по осени). В зависимости от урожайности годы делились на 9 категорий. Существовали таблицы, которые объясняли, сколько налога полагается брать с единицы площади земли такого-то качества, если данный год был годом такой-то категории. В принципе идеалом считалось, когда налог составлял 10–15% урожая, но в реальности он был, как правило, куда больше.
Кроме налогов, крестьянину теоретически полагалось отслужить в армии, пройти то, что у нас назвали бы «срочной службой». Однако на практике крестьян в армию практически не призывали, ведь на протяжении почти всей истории династии Ли корейские вооружённые силы были в десятки раз меньше своей теоретической штатной численности. Со временем власти ввели систему, в соответствии с которой вместо действительной службы военнообязанный крестьянин просто платил дополнительный денежный налог, шедший на нужды армии. Наконец, существовала и трудовая повинность – набор крестьян в строительные подразделения, которые трудились на возведении дворцов, каналов и крепостей. Происходили такие наборы довольно редко, но у крестьян они вызывали особое недовольство.
Однако главной проблемой корейского мужика были не государственные налоги и повинности, а арендная плата. Земли в Корее хронически не хватало, и редкий крестьянин мог прокормить себя и свою семью с собственного участка. Большинству приходилось прибегать к аренде дополнительной земли. Обычно владельцем земли был янбан-помещик, а иногда – и просто сосед-крестьянин побогаче. Главная проблема заключалась в том, что арендная плата была, по европейским или русским меркам, несуразно высока. Обычно она равнялась 50% урожая, но иногда могла быть и ещё выше. Даже корейские помещики не отличались особым богатством, а крестьяне жили в полной нищете, которая в своё время, в конце XIX века, поражала русских путешественников. До весны продуктов не хватало, и голод был постоянной частью корейской крестьянской жизни не только во времена династии Ли, но и позднее – вплоть до середины 1960-х годов. Корейские поговорки и поныне отражают это положение вещей, напоминая, что весна – это время голода. Мясо было роскошью, которую крестьянин мог позволить себе только по большим праздникам, да и чистый рис круглый год могли есть далеко не все. Питание бедноты состояло из ячменя, который по весне порою приходилось смешивать с травой или сосновыми иголками.
Читать дальше