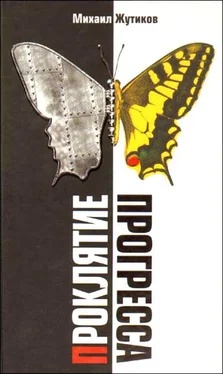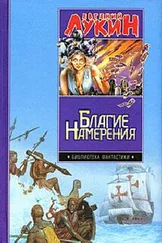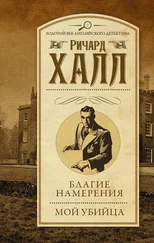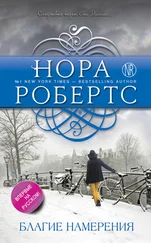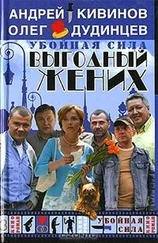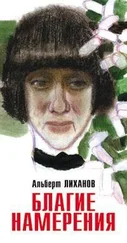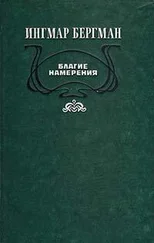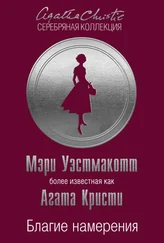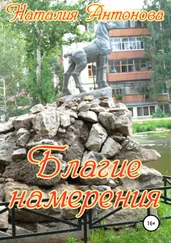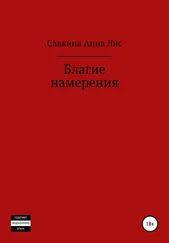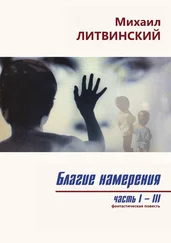В полдневный жар в долине Дагестана…
Глубокая еще дымилась рана…
И снился мне сияющий огнями
Вечерний пир в родимой стороне!
Отлетела от тела в русском пехотном мундире Душа, общавшаяся… не только с Богом – самолюбивая, полная чада всевластии и борьбы с собой, и отчаяния, и жара творчества, душившая сама в себе искренние, а тем паче наружные движения чувств. То-то с воем потащили ее черти в ад – вот только не по ним, к досаде, оказалась категория…
…Душа была из тех,
Которым жизнь – одно мгновенье
Невыносимого мученья,
Недосягаемых утех…
Ценой жестокой искупила
Она сомнения свои…
Да уж, играть падшего ангела – дело не мирное, не любезное сердцу простодушному. Играть!.. – и чуять приближение Подлинного совсем с иного берега, подстерегать Натуральное, являющееся охотнику, как зверь в бору: только на миг, дрожа – пулей уходящее в безвестность лишь заподозрив, что станет добычей Слов.
И скука… и скука же, черт ее дери, русская тоска!
Но неспроста начинал он всматриваться в русскую жизнь отнюдь не с ее «идейной», т. е. рефлективной (быть может, выдуманной и мнимой) стороны.
С отрадой, многим незнакомой
Я вижу полное гумно,
Избу, покрытую соломой,
С резными ставнями окно…
И в праздник, вечером росистым,
Смотреть до полночи готов
На пляску с топаньем и свистом
Под говор пьяных мужичков.
Упорно, с редким усердием, скрытно, почти тайком, с нещадностью к себе, с одинокой настырностью трудился Михаил Юрьевич – на привалах и переходах, в ожиданиях и отпусках, вечерами, ночами и целыми сутками – рано понявший важность реальности, «натуры» и пустоту знакомств и дружб – холод общества, которому нужен не ты, но продукт труда, нужен результат , твоя кровь. Он решал, а не мечтал; достигал, а не планировал. Он не собирался, он жил. Он достиг многого! Его отношение к кавказским людям, горцам; к светским цепям; к войне; к журналам; к русской деревне; к русской публике; к Москве; к Тамбову; к женской любви; к десяткам вещей – верно без изъяну и стало окончательными ответами в культуре.
Он мог достичь вершины!
Сам тяжелый и язвительный его характер должен был гармонизироваться от выдающихся результатов его труда и их признания – ведь несправедливость его в личном быту была лишь уязвимостью высокого самосознания, гордыня – отчасти самолюбием (но и рассеянностью великого сосредоточения ума), провокации – методом испытания истины, а мрачная дерзость и вызов – только формой оскорбленной любви. Однополчане, знавшие его в деле , ценили его сердце, не серчали на пустяки, не вылезли бы со светскою кривою злобой.
Была ли действительная предопределенность в гибели Лермонтова?
Я знал: удар судьбы меня не обойдет;
Я знал…
Мой ум не много совершит…
Так называемое «общество» – средоточие глухого эгоизма – охотно мирится с чужой гибелью, тем паче предсказанной. Но он не кликал смерть, а заклинал ее, он не хотел умирать!
«Я не помню утра более голубого и свежего! Солнце едва выказалось из-за зеленых вершин, и слияние первой теплоты его лучей с умирающей прохладой ночи наводило на все чувства какое-то сладкое томление. В ущелье не проникал еще радостный свет молодого дня: он золотил только верхи утесов, висящих с обеих сторон над нами; густолиственные кусты, растущие в их глубоких трещинах, при малейшем дыхании ветра осыпали нас серебряным дождем…как жадно взор мой старался проникнуть в дымную даль!..» – Такого не пишут фаталисты, обреченные гибели! Скажут: предчувствие смерти не есть ее желание; я в этом не уверен. Но вот как говорят в народе: «Кличешь, кличешь – и накличешь». Некоторая предопределенность, вероятно, была; некоторая! – но и русская невезуха. Если в смерти фаталиста Вулича было взаимное искание ее, неосознанное устремление, отражающееся в особой предсмертной печати на его лице, то при гибели Лермонтова ничего такого не отмечено! Он был убит, как мог быть убит обыкновенный русский человек. Печорин не допустил бы над собой этакого!
Поедешь скоро ты домой:
Смотри ж… Да что? моей судьбой,
Сказать по правде, очень
Никто не озабочен.
А если спросит кто-нибудь…
Ну, кто бы ни спросил,
Скажи им, что навылет в грудь…
Но не Шамилю дано было убить его, не боевым оружием, не в сражении: Кавказ невиновен! Кавказ пришелся ему впору, как приходится впору иное наказание, – в отмеренных, конечно, рамках. Не будь Кавказа (только представить), не было бы «Героя…», «Мцыри», «Беглеца»! – да и такого «Демона»…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу