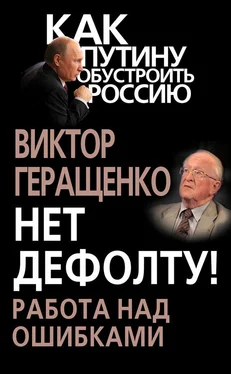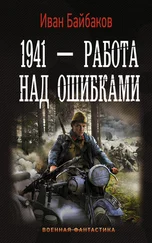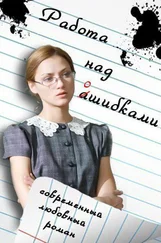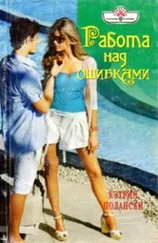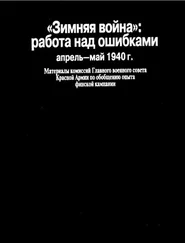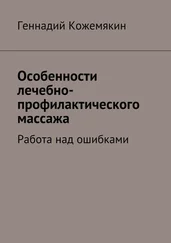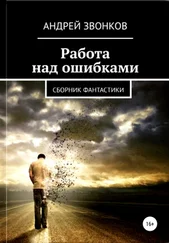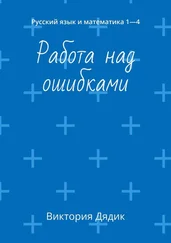— Почему именно перепроизводство?
— Перепроизводство любого типа возникает оттого, что любой владелец капитала пытается достигнуть максимума отдачи на свой капитал и производить как можно больше для потребительского рынка. Отсюда сначала рост, потом кризис. Плюс еще один фактор. Маркс ошибался в том, что капиталист никогда не будет делиться прибавочной стоимостью. Для того чтобы всегда росло потребление, необходимо, чтобы возможность потребить росла. Поэтому всегда надо делиться прибавочной стоимостью с основной массой населения путем, в частности, увеличения зарплат, иначе производство становится глупостью: для чего производить, если у тебя нет потребителя?
— То есть благодаря такой автоматической стимуляции система мировой экономики в какой-то момент попросту вышла из равновесия и стала производить больше, нежели способна потребить?
— Да, плюс к тому есть много непроизводительных расходов, связанных с гонкой вооружений, и других, когда производство определенных товаров не несет никакой потребительской стоимости, исходит из чисто политических интересов. Производится, как и у нас в стране было, много типов вооружений, и рано или поздно страна начинает экономически проигрывать.
— Как, по-вашему, это можно регулировать? Усилиями властей или снизу — через ответную реакцию граждан?
— Знаете, вообще все можно регулировать только разумом. Но дело в следующем. Я где-то недавно прочитал, едва ли не в каком-то перекидном календарике, такую интересную вещь. Эйнштейн, оказывается, считал, что вселенная и глупость безграничны. Но, добавил Эйнштейн, в первом он не уверен.
— Мы у нас в стране видели не раз, как политические силы ввергают народ в кризис, видим, что сейчас происходит в Европе. При этом есть, условно говоря, экономические регуляторы, есть политические, зачастую они входят в противоречие. Они когда-нибудь смогут договориться во имя разума?
— Знаете, я никогда в политику особо не совался — старался быть больше на стороне разума. Но давайте в связи с этим рассмотрим простой пример. В любом коммерческом банке рассматривается обычный вопрос — дать кредит клиенту или не давать. И бывает ясно иногда, что кредит не надо давать — заемщик не сможет вернуть деньги. Но приходят вышестоящие организации, которые говорят: мы прогарантируем, что он вернет, а в случае чего мы вернем, например, достанем деньги из бюджета. Спор между разумным и неразумным — он очень сложный.
Можно вспомнить пример из области точных наук. Был такой известный академик Ландау, за него еще академик Капица-старший в сталинские времена заступался, из тюрьмы вытащил. Так вот, талантливым выпускникам вузов академик Ландау устраивал отдельные экзамены. Тем, кто нравился, говорил: ты ко мне в институт пойдешь. Остальных отправлял в менее престижное учебное заведение. И известный наш физик Сахаров не показался ему особо талантливым. Может быть, Сахаров и был тугодумом, но через год он вывел принцип водородной бомбы и сразу стал и академиком, и Героем Соцтруда. И возникает вопрос: кто может быть судьей и решать, что так, а что не так? Очень сложно делать оценки заранее — у всего своя специфика.
— Намек понятен — объективных критериев судейства нет. Но есть правила игры. Уже больше года движению «Оккупируй Уолл-стрит», в Испании массовые митинги. Власть, по крайней мере избранная демократическим путем, на такие вещи не может не обращать внимания. Насколько серьезно такая уличная активность людей, по-вашему, влияет на финансистов?
— Конечно, влияет. Пусть не сразу и не прямо, но она заставляет думать: что-то мы делаем не так. Поэтому, например, смена во Франции правительства президента Саркози на социал-демократов вполне объяснима. Так же как смена в Англии консерваторов на лейбористов и обратно. Главное же в том, что перемены во власти в целом положительны. Они отражают определенное мнение населения — не туда идем.
— Вы как председатель Банка России не раз участвовали в заседаниях разных загадочных для публики организаций. Таких, например, как Международный банк расчетов, регулирующий отношения центральных банков. Возникают на таких форумах вопросы, связанные с политической ответственностью финансистов?
— Знаете, я, будучи в должности руководителя Банка России, после 1998 года, когда у нас был кризис ГКО (государственные краткосрочные облигации, на выплаты по ГКО у правительства не оказалось денег. — «МН» ), постоянно участвовал в заседаниях в Базеле, где собирались главы центробанков на базе Международного банка расчетов. И там меня много расспрашивали: что мы делаем, как будем выходить из кризиса? А потом расспрашивали председателя Федеральной резервной системы США Гринспена. И тот говорил: рано или поздно в США в связи с нашими якобы внешними заимствованиями произойдет шок. Мы рано или поздно «сядем», поскольку нельзя долго ехать на этих спекулятивных «воздушных шарах». Экономика должна быть традиционно понятной населению.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу