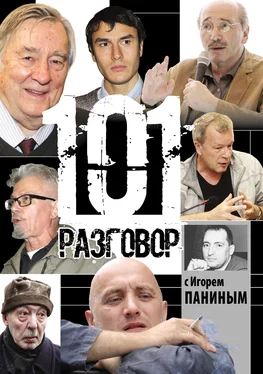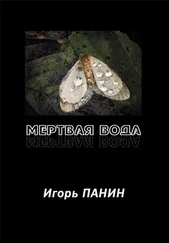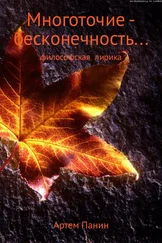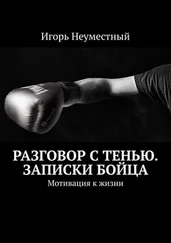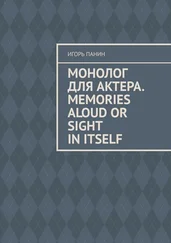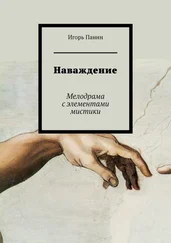– Публикаций в журналах у вас не так много. Да и премиями вы не избалованы. Чем это можно объяснить? Не умеете дружить с «нужными людьми»? Не входите в какие-то «обоймы»? Скромничаете?
– Я написала около 12 тысяч стихотворных строчек, это не так уж много. Все они опубликованы в бумажной периодике, обычно не по одному разу, и продублированы в Интернете. Кстати, все свои стихи помню наизусть. Если говорить о толстых журналах, то особенно ценю свой союз с «Юностью», он длится уже 30 лет. Ну и, конечно, с «Новым миром», где печатаюсь 15 лет. Этот журнал для меня навсегда связан с именем Твардовского и еще с моими собственными бабушками, которые всегда его выписывали и читали. Кстати, и в «Юности», и в «Новом мире» главные редакторы сейчас – поэты, что для меня имеет значение. Вообще же главная цель публикации – чтобы стихи были прочитаны и чтобы при желании их легко было найти в сети. Вроде бы этого мне достичь удалось. Что касается премий и литературных «обойм», то на какие-то специальные усилия, на выстраивание отношений с «нужными людьми» у меня просто нет времени. Я пишу свои тексты и редактирую чужие, по мере сил занимаюсь популяризацией современной поэзии. В этом нахожу смысл и радость жизни. Те профессиональные премии, которые я получила, никаких внелитературных действий от меня не потребовали.
– Вы, стало быть, довольны своей литературной судьбой?
– О судьбе своей я уже когда-то писала – что она «не злобная, но взбалмошная». И уж точно не скучная. Я стараюсь ей соответствовать. Надеюсь не сломаться раньше времени.
«Литературная Россия», 16 октября 2015 г., № 36
«На Западе человек становится другим»
Михаил Гиголашвилисчитает, что изоляция и языковое одиночество только помогают писателю
Гиголашвили Михаил Георгиевич. Родился в 1954 году в Тбилиси. Окончил филфак Тбилисского Университета. Преподавал в местных вузах. Доктор филологии, автор монографии «Рассказчики Достоевского» (1991) и ряда статей по теме «Иностранцы в русской литературе». С 1991 года живет в ФРГ, преподает русский язык в университете земли Саар. Широко печатается в российской и зарубежной периодике. Автор романов «Иудея» (1978), «Толмач» (2003), «Чёртово колесо» (2009), «Захват Московии» (2012), сборника прозы «Тайнопись» (2007). За роман «Чертово колесо» получил приз читательских симпатий премии «Большая книга 20120».
– Этой весной вышел ваш роман «Захват Московии», который был встречен критикой прохладнее, чем «Чертово колесо» и «Толмач». Виктор Топоров, в частности, написал, что крайне разочарован этой книгой, а ведь он был вашим издателем и даже придумал название для того же «Толмача»…
– Насчет Топорова есть мнение – если он ругает, значит, роман хороший. И, кстати, насколько мне помнится сейчас, название он не придумал, а сократил – у меня было «Толмач и дезертиры», а он обрубил до одного слова, за что я ему и благодарен. По поводу же «Захвата…» есть, слава богу, и другие мнения и рецензии, вот, к примеру, Дмитрий Бавильский приходит к совершенно иным выводам, чем Топоров.
– То есть не считаете, что «Захват Московии» – это неудача?
– Нет, конечно. Если бы я так считал, то ни я, ни издательство этот роман не выпустили бы в свет. Наоборот, это роман открыл мне горизонты в плане свободы языка. Я думаю, дело в том, что критика ждала от меня чего-то вроде «Чертова колеса», а новый роман оказался совсем другим, как по форме, так и по содержанию.
– Один мой знакомый литератор определил вас как «писателя экзотического». Мол, грузин, живет в Германии, пишет на русском о проблемах эмигрантов и о Грузии. Но вообще, доля истины в его словах, мне кажется, есть…
– Пусть будет «экзотический» – это лучше, чем «ординарный» или «примитивный». Ведь чем экзотичнее – тем интереснее, не так ли?.. И, кстати, «Захват Московии» – это вовсе не об эмигрантах и не о Грузии, а именно о России, какой её видят люди с Запада. И вообще разве так важно, где кто живет и какую кровь несет в себе? Пусть читают тексты и меньше интересуются личной жизнью, только гамбургский счет расставляет все точки над «i».
– Русский язык для вас – родной? А на грузинском никогда не пробовали писать? И если да, то почему предпочли в итоге русский?
– Русский язык – родной, так сложилось. В Тбилиси было много культурных интеллигентных семей, где говорили на русском. До революции, например, как нам известно из прозы грузинских классиков, весь верхне-дворянский слой говорил на французском, на русском и часто только потом уже на грузинском. Я никогда ни на каких языках, кроме русского, не писал и не пытался, хотя очень бы хотел писать по-грузински: тогда моя форма и содержания сомкнулись бы, и не было бы вопросов типа кто он, где родился и где живет.
Читать дальше