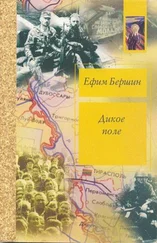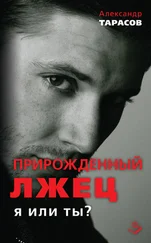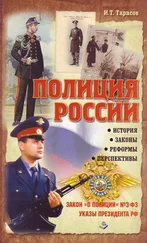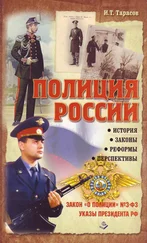Александр Тарасов - Молодёжь России - «No Future»?
Здесь есть возможность читать онлайн «Александр Тарасов - Молодёжь России - «No Future»?» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Публицистика, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Молодёжь России: «No Future»?
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Молодёжь России: «No Future»?: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Молодёжь России: «No Future»?»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Молодёжь России: «No Future»? — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Молодёжь России: «No Future»?», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
В принципе, возможно существование общества, основанного на такого рода «норме», где добродетелям уголовного мира придан общегражданский статус. Существуют теоретические модели таких обществ, отраженные даже в художественной литературе — как блестящий пример можно привести «Цивилизацию статуса» Роберта Шекли [28] См.: Шекли Р. Избранные произведения. Т. 1. Калуга, 1992. С. 631—737; то же произведение под названием «Тоже цивилизация» было опубликовано в журнале «Знание — сила» (1988. №№ 4—8).
.
Если это уголовное общество становится «нормой», то «ненормальными», «преступниками» становятся те, кто не хочет интегрироваться в такое общество. Мне кажется совершенно излишним изыскивать моральные или какие-либо еще оправдания действиям тех, кто не хочет превращаться в часть общества уголовников. Скорее, такие оправдания должны искать для себя те, кто не борется активно с сегодняшним режимом.
Но в «дыре» между поколением «старых» приспособленцев и подрастающим поколением «новых» оказались две возрастные группы, которые невозможно стопроцентно интегрировать в новую систему и которые имманентно враждебны ей — даже если эта враждебность не проявляется открыто, активно и в политических формах. Во-первых, это люди, чье мировоззрение сформировалось в период «позднего застоя» и которые сознательно выбрали путь отказа от интеграции в брежневскую систему. Являясь духовными наследниками «бурных шестидесятых», они, даже внешне сохраняя лояльность «новой России», не могут принять ее — и даже на уровне семьи обречены продуцировать новые оппозиционные кадры. Поделать с этим ничего нельзя, разве только физически истребить их всех поголовно — а это несколько миллионов человек. К тому же, еще до «перестройки» они путем проб и ошибок смогли создать несколько «неформальных» социальных структур, которые, как выяснилось, принципиально неуничтожимы силовыми методами и запрограммированы на полную регенерацию «с нуля» [29] Пример исследования одной такой структуры — «Системы» см.: Щепанская Т.Б. Символика молодежной субкультуры. Опыт этнографического исследования Системы. 1986—1989 гг. СПб., 1993.
.
Второй такой возрастной группой оказалось «поколение ранней перестройки», чье идеологическое и социокультурное формирование завершилось в конце 80-х гг. Явившись расширенным и несколько «сниженным», «омассовленным» вариантом «поколения Системы», «поколения дворников и сторожей», оно параллельно с усвоением достижений старших братьев быстро активно включилось в социальные, культурные и политические процессы «ранней перестройки» и оказалось изначально нацелено на гораздо более жесткую оценку действительности, на предъявление к ней высоких социальных и моральных требований. Творческий труд представляется этой группе более важным, чем внешнее благосостояние. Зачастую они сами прекрасно осознают невозможность своего включения в «капиталистическую Россию» — тем более в роли «шестерок» новой криминальной буржуазии. Очень убедительно об этом написал лидер петроградских анархо-коммунистов и председатель Петербургского комитета «Студенческой защиты» Фред Щербаков [30] См.: Новый свет (Пг.). 1993. № 2.
.
Культурный и образовательный уровень этих двух возрастных групп, идеологическая и социальная направленность их активных представителей, да и просто уровень притязаний и система представлений о «нормальном» мире и образе жизни не дают им возможности без моральных и психологических травм вписаться в сегодняшнюю Россию. Тем более что устанавливаемые сверху «шаблоны культуры» и модели поведения не просто чужды им (они чужды значительной части населения), но унизительны и агрессивно оскорбительны . Литература, которую они привыкли читать (часто рискуя попасть под репрессии) заменена чудовищной по качеству «палп-массой», макулатурой в ярких обложках. Кино, которое они привыкли смотреть, вытеснено с экранов откровенно десятисортной голливудчиной и отечественной «подражательской» продукцией. Театр, которым они занимались и который смотрели (экспериментальные студии, как правило), убит новым строем. Живопись, которой они занимались и «потребителем» которой они были, оказалась не нужна обществу нуворишей, а сами живописцы вынуждены делать и продавать «китч а-ля рюсс», чтобы прокормить себя (естественно, на подлинное творчество не хватает ни времени, ни сил). Рок-музыка, которая была своеобразным символом этих возрастных групп и которая воспринималась ими в первую очередь как социальная музыка, как музыка протеста [31] См.: Сикевич З.В. Молодежная культура: «за» и «против». Заметки социолога. Л., 1990. С. 107—122.
, была вытеснена китчем, «попсой», а вчерашние «братья-бунтари» (а отчасти и кумиры) оказались купленными на корню шоу-бизнесом и деградировали до откровенной кабатчины, как Б. Гребенщиков и Ю. Шевчук, а то и просто скатились до проституированного существования «телекулинара», как А. Макаревич. Эта эволюция вчерашних вождей, кстати, болезненно переживается их бывшими «братьями по бунту» и инициирует ненависть к «предателям». Не менее психотравмирующе воспринимается ими и то, что система образов «поколения протеста», тщательно разработанная ими для «опознания своих» и демонстрации вызова «чужим», полностью заимствована «массовой культурой» и превращена в чисто декоративный элемент шоу-бизнеса.
Интервал:
Закладка:
Похожие книги на «Молодёжь России: «No Future»?»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Молодёжь России: «No Future»?» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Молодёжь России: «No Future»?» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.