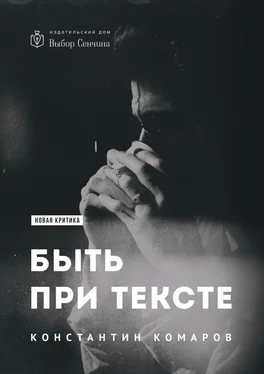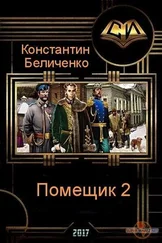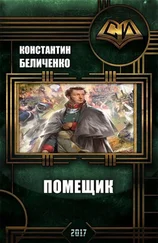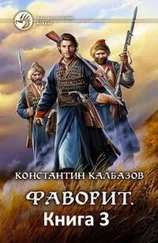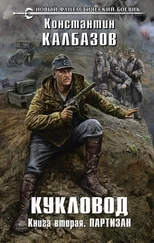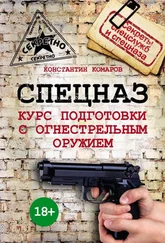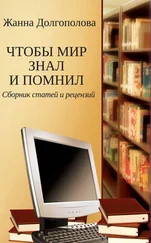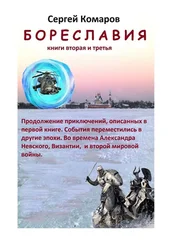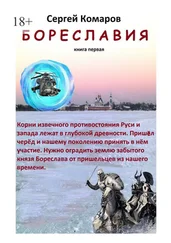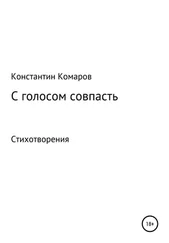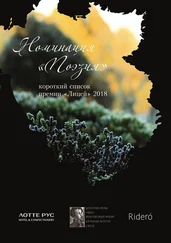Люби чужое слово как свое, и велика вероятность, что событие, понятое как со-бытие́, состоится.
2014
Жить можно
Свердловск-Екатеринбург: город и поэты
* * *
Взаимодействие поэта с местом и поэтического текста с местом – сюжет особый. Недаром в последнее время мы наблюдаем все возрастающий интерес к геопоэтике, появление понятий вроде «гений места», «поэтический ландшафт», «ландшафтное зрение» и т. д. Поэтология идет навстречу географии, и география от нее не убегает. С разных сторон обосновывается и без того довольно очевидный факт, что поэт пишет свое место (нарочно оставлю здесь некую двусмысленность). Или так: место пишет себя само. Руками поэта. Место являет себя на всех уровнях поэтического текста. Город в таком разрезе предстает не только как тема стихотворений, но как универсальный инструмент поэтического познания, ощущения и осмысления действительности.
Крайне актуальна на сегодня, например, проблематика так называемого «места силы». Петербургский поэт и культуртрегер Роман Ос/ь/Минкин пишет: «Применительно ко дню сегодняшнему, когда сама фигура гения поставлена под большой вопрос, а уникальное место в большой глобальной деревне сведено к своей жесткой прагматике, впору каждому заняться со-творением своих мест силы – выкристаллизовать „дух места“ из череды неупорядоченных топосов. Для этого нужно всего ничего – исследовательский зуд и неутилитарный взгляд на вещи» [11].
Пространство города, претерпевая индивидуальное художественное преломление, зачастую и формирует особое измерение художественного текста. По словам западного исследователя К. Линча, «город можно читать как текст, и структура его приближается в каком-то смысле к художественному произведению. Это становится возможно благодаря хорошо читаемым – видимым, заметным, опознаваемым – объектам, которые способны вызвать сильный образ в сознании любого наблюдателя и „навязывают себя чувствам обостренно и интенсивно“» [Цит. по 4]. Комментируя это высказывание, екатеринбургский литературовед Татьяна Арсенова пишет: «Окружающее городское пространство, обладая определенным творческим потенциалом, уже идет навстречу художнику, т.е. интенция к творческой переработке, символизации городских локусов не только исходит со стороны литературы, но и заложена в самом этом пространстве, „жаждущем“ быть названным, обрести свой образ» [4]. Таким образом, художник и место находятся в отношениях напряженного взаимовлияния и взаимообогащения: художник, открывая духовные ресурсы того или иного топоса, как бы становится им, осваивая и присваивая (в лучшем смысле слова) место, а место своими токами и вибрациями определяет многое в художнике – причем не только в его поэтике, но в личности и судьбе.
При этом отношения поэта с местом (и шире – с пространством) всегда полны подспудного драматизма. Об этом хорошо сказал Владимир Губайловский: «Поэты – особый род наблюдателей. Поэт способен изменять внутреннюю топологию пространства. Он может рассечь ткань. Но попытка любого изменения структуры, которое привносит поэт своей работой, всегда первоначально отторгается поэтическим пространством. Новая поэзия может возникнуть только в точке бифуркации, в точке перенапряжения, где достаточно малого прикосновения, чтобы прорвать пространство» [5].
* * *
На берегу, как говорил Дидро, «разберемся в терминах». Уральская поэзия для меня – это, прежде всего, русская поэзия, создаваемая на Урале очень разными поэтами. Что не отменяет и не может отменить ни ее общей специфики и особенностей, ни правомерности существования такой генерации, как Уральская поэтическая школа. Никакого взаимосключения здесь не вижу. Слова «екатеринбургский» и «свердловский» я буду употреблять здесь как контекстуальные синонимы, но в слове «екатеринбургский» акцентируя все-таки больше место создания стихов и нынешнего проживания их авторов, а в слове «свердловский» – качественную специфику самих текстов, их внутреннее пространство. Потому что екатеринбургская поэзия явно тяготеет к Свердловску не только на уровне прямого называния этой лексемы, но самой стиховой фактурой и интонацией. Как было замечено, «на асфальте Екатеринбурга еще вьются трещинки тогдашне-давнишнего Свердловска» [3]. Еще как вьются. Тогдашне-давнишнего. Свердловск-Екатеринбург… Эту изначальную амбивалентность стоит сразу запомнить.
Думается, для поэта как такового не последнее значение имеет пограничность в любом ее изводе: от гейневской трещины, проходящей через сердце поэта, и экзистенциалистских «пограничных состояний» до глубинной, принципиальной жизненной маргинальности 1 1 Не случайно сайт, посвященный Уральской поэтической школе (УПШ), и книга Анны Сидякиной о ней называются «Маргиналы». Мне кажется, это очень удачное и правильное название.
. На Среднем Урале эта пограничность предстает еще и как стык материков и культур – европейской и азиатской. Во многих написанных здесь стихах мы можем отследить странный и магнетический сплав «диковатой» азиатчины и европейской рациональной «изысканности», при этом оба компонента присутствуют, что называется, в лучшем виде, в чистых своих преломлениях. Что сказать – природно-культурный шов, а именно на швах, как мы знаем, аккумулируется особого рода ментальная энергетика 2 2 Здесь пляшу от печки, то есть от себя любимого. В одной из моих поэтических рефлексий над местом обитания, «где камень так простуженно сипит / под бурами, ломами и кирками» , срединное положение Урала предстает как окуляр, через который видится «бессознательное» России («Я только здесь учуять это смог, где Азия целуется с Европой»), и именно нахождение на шве позволяет прийти к обреченно-утешительной коде: «Тетрадь открыл – стихи переболят: здесь все обычно переболевает» .
.
Читать дальше