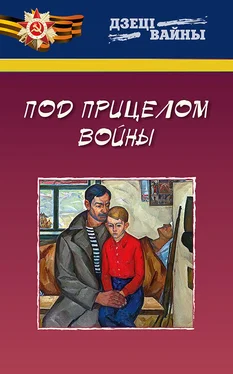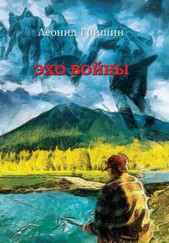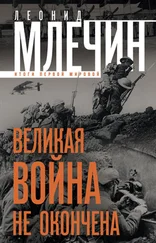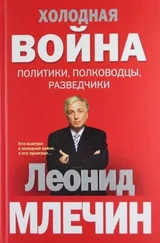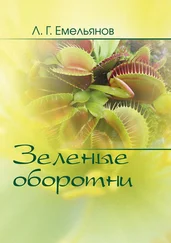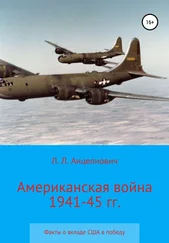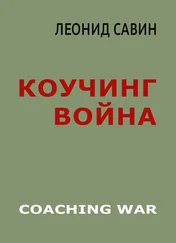1 ...7 8 9 11 12 13 ...59 Ну а потом настал черед школы обычной, а за ней и института. Я окончил лесотехнический в Минске. Распределили на Дальний Восток. Три года работал там аэрофототаксатором. Летал на самолетах и производил фотосъемку леса. Затем, если помните, был такой сталинский план наступления на засуху. Пришлось и мне поучаствовать в этих работах в Сталинградской области. Сажали полосы лесозащитные вдоль Волги и Днепра. В Минске долгое время работал заместителем, а потом и директором ботанического сада.
О войне можно было бы рассказать и больше, когда еще свежа была память о ней. Сейчас уже многое подзабылось. Помнится отрывками. Теми ужасами и бедами, которые остаются с тобой навсегда.
(вспоминает Борис Якушев)
Родился в Минске в 1932 году. Исследователь в области экологии и радиоэкологии растений. Член-корреспондент НАН Беларуси. Доктор биологических наук. Заслуженный деятель науки.
Жил в Минске до 1939 года с отцом, матерью и двумя сестрами. Летом 1939 года переехали на жительство в город Смоленск. Почему – не знаю. Там и встретили войну. Видел, как бомбили город и массово гибли люди. Когда началась эвакуация, мы (я, мама и обе сестры) поехали на восток страны, на родину отца – в Саратовскую область (Тамалинский район, село Зубриловка). Ехали вместе с беженцами. Ночами. Эшелоны регулярно обстреливали, и мама защищала нас, детей, своим телом. Затем переехали в Казань на место новой дислокации отца. Он был военным в звании старший лейтенант. Из-за сердечной недостаточности его поначалу списали со службы, но, подлечив, снова отправили на фронт. А в 1944-м окончательно демобилизовали по состоянию здоровья.
В 44-м по мере освобождения советской территории от немецких оккупантов мы стали пробираться поближе к родине. Сначала на Полтавщине пожили в городе Лазирки (до 1945 года), а затем вернулись в Белоруссию.
Приехали в Минск – кругом одни развалины. Город на 90 % был разрушен. Первые два года после окончания войны жили в подвалах, в антисанитарных условиях. Было голодно, холодно. Продукты выдавались по карточкам. В общем, хватило горя – и нам, и всем остальным. Но выкарабкались, как видите, выучились и смогли даже кое-что сделать полезное для своей страны.
(вспоминает Александр Волынец)
Родился 2 февраля 1935 года в деревне Беркозы Жабчицкого (ныне Пинского) района Брестской области. Исследователь в области физиологии и биохимии растений. Доктор биологических наук.
Наша деревня расположена всего-то в двадцати километрах от Пинска, но по довоенным меркам это была настоящая полесская глушь. Кругом леса, радио отсутствовало, так что о войне мы, дети, просто не подозревали. Она ворвалась в нашу жизнь весьма неожиданно. Мне шел тогда седьмой год. Проснулся утром, вышел на улицу, смотрю: едет какая-то странная машина с подножками по бокам, на которых человеку можно было стоять. И с рупором наверху. Из рупора доносится громкий русский голос: «Граждане! Не бойтесь, выходите из домов. Пришла новая власть!»
Люди потихоньку начали открывать двери, настороженно выглядывая из-за них. Стрельбы никакой не было. Бои шли где-то вдалеке, и я даже не слышал их шума.
А вблизи селения практически в тот же день закипела работа. Дело в том, что рядом с деревней – примерно в пятидесяти метрах от одного ее конца и в двухстах от другого – проходила железная дорога Брест – Гомель, стратегически очень важная для переброски войск, техники, боеприпасов и прочего снаряжения. Ее надо было тщательно охранять. Под жилье оккупанты срочно приспособили кирпичное здание, в котором при советской власти размещались железнодорожные служащие. Обнесли его по периметру двойными высокими (около двух метров) бревенчатыми стенами, в промежутке между которыми насыпали песок. Мы называли это сооружение бункером. Рядом с ним поставили сторожевую вышку с пулеметами. Службу немцам помогали нести мадьяры.
Заборы поломали в первую же ночь. Деревню вокруг немедленно обложили кострами. Они пылали примерно через каждые сто метров. И все из-за того, что рядом полотно железной дороги. Боялись, видимо, нападения на нее из леса. Они же не знали, кто тут и что тут. Вскоре перестала существовать и сама деревня. Поступила команда о ее сносе. Дали для этого очень короткий (не помню уже точно, какой) срок. 700-метровая зона по обе стороны от железнодорожного пути должна была быть свободной от деревьев и построек.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу