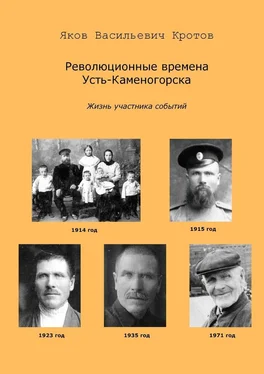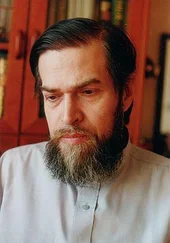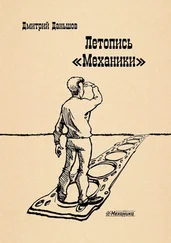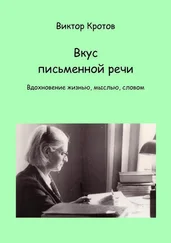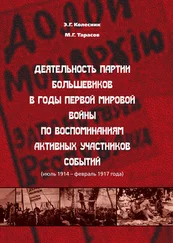Михаил Андреевич работал ямщиком на тракте Глазов – Залазнинский завод 1 1 Кайско-глазовский тракт, первая «государственная» почтовая дорога, прошедшая по территории нынешнего Омутнинского района с юга на север. Построена в середине XVIII века, связывала уездный город Глазов с Каем (и далее в Великий Устюг и Пермские земли). Проходила через Кирсинский, Песковский, Залазнинский заводы, деревни Ренёвскую, Морозовскую, Хробыстовскую и другие. На рубеже 1880-1890-х гг. Залазнинские заводы приобрёл «винный король» России Альфонс Фомич Поклёвский-Козелл. (прим. ред.)
, гонял земские подводы, то есть подводы, содержавшиеся земством. Возил на земских лошадях господ и чиновный люд.
Ямщик был крепостной мужик, а подводы казённые… Часто бабушка рассказывала мне, как самодуры чиновники и бояре расправлялись с ямщиками, с их жёнами и дочерьми, которые обслуживали проезжавших барских прихвостней. Едет какой-нибудь самодур под хмельком, и всё приготовленное и поданное на стол ему не нравится. Если яйца не того вкуса, то эти яйца бросаются в лицо обслуживающей. Жаловаться было некому, а муж или отец не имели права защитить дочь или жену, а то ему всыплют розог или нагаек. Отказываться было нельзя, а то хуже будет.
Таким-то образом крепостные люди бежали в глухие леса, чтоб хоть в тяжёлых условиях, но жить без побоев. В дебрях обрабатывали клочки земли, что могли они отвоевать у тайги, ловили рыбу мордочками (приспособление для рыбной ловли), ловили в силки рябчиков, косачей.
Старались жить тише, чтобы не проведали пристава. Кого же обнаруживали, того, как говорила бабушка, возвращали к помещику. Жили тихо, чтоб не обнаружили, ютились по два, по три двора, занимались охотой, ну и по возможности обзаводились хозяйством. После освобождения от крепостной зависимости стали из отдельных стойбищ создавать починки, то есть объединять свои жилья и обрабатывать землю. Начальство брало эти починки на учёт и облагало податями в доход казны. Север был богат не только лесами, но и рыбой, и дичью, а также такими деревьями, как черёмуха, рябина, ягодами малины, клюквы, и даже рудой.
Как водится, где люди, там и охотники за чужим трудом. Появились заводчики, купцы и урядники с начальниками. Когда население возросло, начали строить заводы. Народ стал сосредотачиваться вокруг заводов лесопромышленников на реках. Люди стали приобретать специальности лесорубов, рудовозов. Конечно, росло население, а также число людей – любителей наживы.
Мой прадед
Михаил Андреевич
Михаил Андреевич был грамотен, читал книги. Конечно, книги были церковнославянского письма. Даже осталась от него книга «Псалтирь», с готическими буквами под титлами, то есть вместо «БОГ» писалось «Б'Г». Эта книга хранилась не у старшего сына Даниила Михайловича, а у Киприана Михайловича. У Михаила Андреевича было три сына: Даниил, Киприан и Илья. Дети Михаила все были безграмотны. Два брата – Киприян и Илья – работали на заводе Залазнинском, принадлежащем заводчику Мосолову. Жили они по соседству в трёх хозяйствах. Илья умер молодым. Даниил и Киприян жили до глубокой старости.
У Даниила родился сын Василий и две дочери – Дина и Анна. У Киприяна родился сын Прокопий и две дочери – Анна и Дарья. У Ильи родился сын Дмитрий.
Жили все в одной деревне, называлась она Ренёвской. Стояла деревня на взгорье, внизу текла речушка Ренёвка. От села речка находилась с километр. Она служила всем жителям деревни водоснабжением, она же служила купальней летом, а зимой местом полоскания белья и водопоем скота.
Мой дед Даниил Михайлович
Даниил Михайлович, мой дедушка, был охотник и пасечник. Пасеку, то есть ульи со пчёлами он вешал на высокие деревья, там и гнездились пчёлы. Осенью ульи вскрывались, и мёд забирали, оставляя только на питание пчёл зимой. Ульи же обвязывали матами из ржаной соломы и камыша.
Как я помню, после смерти моего деда осталось много ульев, – круглые долблёные колоды, которые подвешивались на деревьях и привязывались, чтобы не мог медведь достать (медведи страстно любят мёд). Во дворе дома оставалось до сотни ульев с невыломаными сотами. Мой отец Василий Данилович не интересовался дедушкиным хозяйством. Несколько лет из ульев выламывали пчелиные соты, перетапливали на воск и сдавали в церковь на свечки. Бабушка только качала головой, и нередко у неё бежали слёзы из глаз.
Как мой дед умер и его хоронили, я не помню, но как ходил возле ульев, поколачивая легонько палочкой, запомнил. И помню, что он был болен. Старенький, он плёл лапти, не сидя, а стоя на ногах: у него болела спина. Когда он умер, мне было, наверно, года три-четыре. Даниил Михайлович, по рассказам бабушки, Ирины Савельевны, умер восьмидесяти трёх лет отроду, умер, как выражалась бабушка, скоропостижно. Ирина Савельевна ещё жила долго, нянчила нас с братом Павлом, который был старше меня на четыре года.
Читать дальше